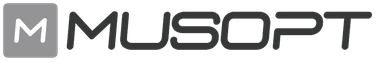Посылки выдавали на вахте. Бригадиры удостоверяли личность получателя. Фанера ломалась и трещала по-своему, по-фанерному. Здешние деревья ломались не так, кричали не таким голосом. За барьером из скамеек люди с чистыми руками в чересчур аккуратной военной форме вскрывали, проверяли, встряхивали, выдавали. Ящики посылок, едва живые от многомесячного путешествия, подброшенные умело, падали на пол, раскалывались. Куски сахара, сушеные фрукты, загнивший лук, мятые пачки махорки разлетались по полу. Никто не подбирал рассыпанное. Хозяева посылок не протестовали - получить посылку было чудом из чудес.
Возле вахты стояли конвоиры с винтовками в руках - в белом морозном тумане двигались какие-то незнакомые фигуры.
Я стоял у стены и ждал очереди. Вот эти голубые куски - это не лед! Это сахар! Сахар! Сахар! Пройдет еще час, и я буду держать в руках эти куски, и они не будут таять. Они будут таять только во рту. Такого большого куска мне хватит на два раза, на три раза.
А махорка! Собственная махорка! Материковская махорка, ярославская "Белка" или "Кременчуг № 2". Я буду курить, буду угощать всех, всех, всех, а прежде всего тех, у кого я докуривал весь этот год. Материковская махорка! Нам ведь давали в пайке табак, снятый по срокам хранения с армейских складов, - авантюра гигантских масштабов: на лагерь списывались все продукты, что вылежали сроки хранения. Но сейчас я буду курить настоящую махорку. Ведь если жена не знает, что нужна махорка покрепче, ей подскажут.
- Фамилия?
Посылка треснула, и из ящика высыпался чернослив, кожаные ягоды чернослива. А где же сахар? Да и чернослива - две-три горсти...
- Тебе бурки! Летчицкие бурки! Ха-ха-ха! С каучуковой подошвой! Ха-ха-ха! Как у начальника прииска! Держи, принимай!
Я стоял растерянный. Зачем мне бурки? В бурках здесь можно ходить только по праздникам - праздников-то и не было. Если бы оленьи пимы, торбаса или обыкновенные валенки. Бурки - это чересчур шикарно... Это не подобает. Притом...
- Слышь ты... - Чья-то рука тронула мое плечо. Я повернулся так, чтобы было видно и бурки, и ящик, на дне которого было немного чернослива, и начальство, и лицо того человека, который держал мое плечо. Это был Андрей Бойко, наш горный смотритель. А Бойко шептал торопливо:
- Продай мне эти бурки. Я тебе денег дам. Сто рублей. Ты ведь до барака не донесешь - отнимут, вырвут эти. - И Бойко ткнул пальцем в белый туман. - Да и в бараке украдут. В первую ночь.
"Сам же ты и подошлешь", - подумал я.
- Ладно, давай деньги.
- Видишь, какой я! - Бойко отсчитывал деньги. - Не обманываю тебя, не как другие. Сказал сто - и даю сто. - Бойко боялся, что переплатил лишнего.
Я сложил грязные бумажки вчетверо, ввосьмеро и упрятал в брючный карман. Чернослив пересыпал из ящика в бушлат - карманы его давно были вырваны на кисеты.
Куплю масла! Килограмм масла! И буду есть с хлебом, супом, кашей. И сахару! И сумку достану у кого-нибудь - торбочку с бечевочным шнурком. Непременная принадлежность всякого приличного заключенного из фраеров. Блатные не ходят с торбочками.
Я вернулся в барак. Все лежали на нарах, только Ефремов сидел, положив руки на остывшую печку, и тянулся лицом к исчезающему теплу, боясь разогнуться, оторваться от печки.
- Что же не растопляешь?
Подошел дневальный.
- Ефремовское дежурство! Бригадир сказал: пусть где хочет, там и берет, а чтоб дрова были. Я тебе спать все равно не дам. Иди, пока не поздно.
Ефремов выскользнул в дверь барака.
- Где ж твоя посылка?
- Ошиблись...
Я побежал к магазину. Шапаренко, завмаг, еще торговал. В магазине никого не было.
- Шапаренко, мне хлеба и масла.
- Угробишь ты меня.
- Ну, возьми, сколько надо.
- Денег у меня видишь сколько? - сказал Шапаренко. - Что такой фитиль, как ты, может дать? Бери хлеб и масло и отрывайся быстро.
Сахару я забыл попросить. Масла - килограмм. Хлеба - килограмм. Пойду к Семену Шейнину. Шейнин был бывший референт Кирова, еще не расстрелянный в это время. Мы с ним работали когда-то вместе, в одной бригаде, но судьба нас развела.
Шейнин был в бараке.
- Давай есть. Масло, хлеб.
Голодные глаза Шейнина заблистали.
- Сейчас я кипятку...
- Да не надо кипятку!
- Нет, я сейчас. - И он исчез.
Тут же кто-то ударил меня по голове чем-то тяжелым, и, когда я вскочил, пришел в себя, сумки не было. Все оставались на своих местах и смотрели на меня со злобной радостью. Развлечение было лучшего сорта. В таких случаях радовались вдвойне: во-первых, кому-то плохо, во-вторых, плохо не мне. Это не зависть, нет...
Я не плакал. Я еле остался жив. Прошло тридцать лет, и я помню отчетливо полутемный барак, злобные, радостные лица моих товарищей, сырое полено на полу, бледные щеки Шейнина.
Я пришел снова в ларек. Я больше не просил масла и не спрашивал сахару. Я выпросил хлеба, вернулся в барак, натаял снегу и стал варить чернослив.
Барак уже спал: стонал, хрипел и кашлял. Мы трое варили у печки каждый свое: Синцов кипятил сбереженную от обеда корку хлеба, чтобы съесть ее, вязкую, горячую, и чтобы выпить потом с жадностью горячую снеговую воду пахнущую дождем и хлебом. А Губарев натолкал в котелок листьев "мерзлой капусты - счастливец и хитрец. Капуста пахла, как лучший украинский борщ! А я варил посылочный чернослив. Все мы не могли не глядеть в чужую посуду.
Кто-то пинком распахнул двери барака. Из облака морозного пара вышли двое военных. Один, помоложе, - начальник лагеря Коваленко, другой, постарше, - начальник прииска Рябов. Рябов был в авиационных бурках - в моих бурках! Я с трудом сообразил, что это ошибка, что бурки рябовские.
Коваленко бросился к печке, размахивая кайлом, которое он принес с собой.
- Опять котелки! Вот я сейчас вам покажу котелки! Покажу, как грязь разводить!
Коваленко опрокинул котелки с супом, с коркой хлеба и листьями капусты, с черносливом и пробил кайлом дно каждого котелка.
Рябов грел руки о печную трубу.
- Есть котелки - значит, есть что варить, глубокомысленно изрек начальник прииска. - Это, знаете, признак довольства.
- Да ты бы видел, что они варят, - сказал Коваленко, растаптывая котелки.
Начальники вышли, и мы стали разбирать смятые котелки и собирать каждый свое: я - ягоды, Синцов - размокший, бесформенный хлеб, а Губарев - крошки капустных листьев. Мы все сразу съели - так было надежней всего.
Я проглотил несколько ягод и заснул. Я давно научился засыпать раньше, чем согреются ноги, - когда-то я этого не мог, но опыт, опыт... Сон был похож на забытье.
Жизнь возвращалась, как сновиденье, - снова раскрылись двери: белые клубы пара, прилегшие к полу, пробежавшие до дальней стены барака, люди в белых полушубках, вонючих от новизны, необношенности, и рухнувшее на пол что-то, не шевелящееся, но живое, хрюкающее.
Дневальный, в недоуменной, но почтительной позе склонившийся перед белыми тулупами десятников.
- Ваш человек? - И смотритель показал на комок грязного тряпья на полу.
- Это Ефремов, - сказал дневальный.
- Будет знать, как воровать чужие дрова.
Ефремов много недель пролежал рядом со мной на нарах, пока его не увезли, и он умер в инвалидном городке. Ему отбили "нутро" - мастеров этого дела на прииске было немало. Он не жаловался - он лежал и тихонько стонал.
В настоящей статье предпринята попытка закрытого анализа рассказа В. Шаламова «Посылка». Цель его заключается в том, чтобы показать высокую степень художественной организации данного произведения, вскрыть те глубинные пласты, которые в силу лаконичности Шаламовского стиля оказываются труднодоступными при первом прочтении.
1. Элементы, входящие в класс живого
Предпринятый анализ позволяет установить прежде всего во вступительной и заключительных частях рассказа те очевидные параллели различных явлений, которые в нашем обычном представлении несопоставимы.
Попробуем сравнить следующие фрагменты вступительной (1) и заключительной (2) частей рассказа.
(1) «Посылки выдавали на вахте. Бригадиры удостоверяли личность получателя. Фанера ломалась и трещала по-своему, по-фанерному. Здешние деревья ломались не так, кричали не таким голосом. За барьером из скамеек люди с чистыми руками в чересчур аккуратной военной форме вскрывали, проверяли, встряхивали, выдавали. Ящики посылок, едва живые от многомесячного путешествия, подброшенные умело, падали на пол, раскалывались»(23) .
(2) «Жизнь возвращалась как сновиденье, - снова раскрылись двери: белые клубы пара, прилегшие к полу, пробежавшие до дальней стены барака, люди в белых полушубках, вонючих от новизны, необношенности, и рухнувшее на пол что-то, не шевелящееся, но живое, хрюкающее.
Дневальный, в недоумённой, но почтительной позе склонившийся перед белыми тулупами десятников.
Ваш человек? - И смотритель показал на комок грязного тряпья на полу.
Это Ефремов, - сказал дневальный.
Будет знать, как воровать чужие дрова.
Ефремов много недель пролежал рядом со мной на нарах, пока его не увезли, и он умер в инвалидном городке. Ему отбили /78/ «нутро» - мастеров этого дела на прииске было немало. Он не жаловался - он лежал и тихонько стонал» (26-27).
Очевидно, что проводится параллель между выдачей посылок и тем, что случилось с Ефремовым, между фанерными ящиками и Ефремовым. «И тем и другим» занимается охрана или смотрители, «и то и другое» падает на пол («падали на пол» / «рухнувшее на пол что-то»), и то и другое» кричит /стонет, и в завершении: Ефремов - умирает, ящики - раскалываются.
Мысль о том, что в лагерных условиях Ефремов превращается в вещь, передаётся с помощью тех пассажей, где он описывается как некий предмет, нечто неопределённое, «что-то». Это видно и в следующем фрагменте, где в одном ряду оказываются «человек», «комок Грязного белья», «Ефремов»:
Ваш человек ? - И смотритель показал на комок грязного тряпья на полу .
Это Ефремов , - сказал дневальный.
Далее обращают на себя внимание описания фанерных ящиков, в которых пришли посылки, «едва живые от многомесячного путешеcтвия», и деревьев, которые имеют голос , кричат , как живые. Мы видим, что и ящикам, и деревьям приписываются свойства, присущие живым существам; они живут своей жизнью (вступительная часть рассказа), а живые люди предстают перед нами как вещи (заключительная часть). Почему автор прибегает к такому приёму, пока остаётся загадкой.
В рассказе есть только три слова с корнем жи - (жив , жизнь , живой ). Они используются в начале, когда говорится о ящиках, в конце, когда речь идет о Ефремове, а также в случаях по отношению к герою-рассказчику: первый раз - после описания нападения на него: «я еле остался жив » (25), второй - в момент его пробуждения: «Сон был похож на забытье. Жизнь возвращалась, как сновидение» (23). Обращает на себя внимание то, что речь идёт не о полноценной человеческой жизни. Это жизнь на уровне жизни ящиков («едва живые»). И Ефремов, и рассказчик - живые существа, но их жизнь как будто «приглушена». Преобладающими свойствами Ефремова оказываются именно вещные свойства, у рассказчика жизнь временами «отбывает» куда-то, а возвращается в качестве сновидения.
Другой пример такой «приглушенной жизни» мы находим и в обращённом к герою-рассказчику замечании Шапаренко: «Что такой фитиль , как ты, может дать?..». На лагерном жаргоне слово фитиль обозначает: «доходяга, в котором жизни столько, сколько пламени на фитильке» .
Характерным, на наш взгляд, представляется выбор личных имён и фамилий персонажей анализируемого произведения, более внимательное рассмотрение которых, возможно, приблизит нас к разгадке «тайны» рассказа. Насколько нам известно, большое исследование роли имён в творчестве В. Шаламова не проводилось. Попытаемся /79/ проанализировать этот вопрос, опираясь на материал рассказа «Посылка».
Думается, что в подходе к выбору личных имён и фамилий (исключая пока имена горного смотрителя Андрея Бойко, начальника лагеря Коваленко и завмага Шапаренко, к которым мы вернёмся позднее) применён единый принцип. Рассмотрим следующие имена и фамилии, названные в рассказе: Ефремов, Синцов, Губарев, Рябов, а также Киров (фамилия реально существующего политического деятеля) и Семён Шейнин (имя и фамилия, возможно, существовавшего в действительности референта Кирова). Речь пойдет не только об этимологии слов, обозначающих имена и фамилии, но и о тех ассоциациях, которые они вызывают.
Фамилия Ефремов восходит к древнееврейскому ephrajim, обозначавшему:
- имя собственное (имя человека);
- название израильского племени.
Согласно Библии Иосиф назвал своего сына Ефрем , потому что, говорил он, «бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Название же израильского племени происходит от названия места его обитания, буквально обозначавшего «плодовитая область/земля» . В обоих значениях центральным называется компонент «плодовитость ».
Имя собственное Семён также имеет корни в древнееврейском. Оно образовано от глагола слушать . Фамилия Шейнин, вероятно, образована от прилагательного шейный. А фамилия Синцов , по мнению Федосюка, имеет связь с существительным синец . Ю. Федосюк отмечает: «Синец, быть может, человек с синеватым цветом лица» . В толковых словарях русского языка находим также иное значение этого слова: синец - разновидность рыб. Фамилия Губарев (со значением «толстогубый») , образована от существительного губа ; Рябов - от прилагательного рябой , этимологически связанного с названиями различных животных, птиц и растений и имеющего общий корень со cловами рябина , рябчик и т.п.
Этимология приведённых выше имён и фамилий показывает, что все они образованы от слов, обозначающих части тела, различные физические/физиологические качества человека или связаны с миром животных/растений. Рассматривая этимологию используемых В. Шаламовьм личных имён, мы приходим к выводу, что в контексте рассказа все перечисленные выше явления - элементы одного класса, класса живого . «Мир человека» и «сфера биологического» не разделяются, а, напротив, образуют единство.
Одной из немаловажных деталей в рассказе является, на наш взгляд, упоминаемая в самом начале махорка , о которой так мечтает герой-рассказчик. Махорка - курительный табак, приготовленный из листьев растения с тем же названием - «материковская махорка, ярославская «Белка» или «Кременчуг-2» (23). При ближайшем рассмотрении группы слов, используемых для описания махорки, мы находим, что их значения также являются своеобразным отражением единства /80/ элементов, объединяемых в рассказе в один класс. В тексте названа ярославская махорка (от названия города Ярославль , в свою очередь образованного, как известно, от мужского имени Ярослав ). Слово Кременчуг (название города на Украине) этимологически связано со cловом кремень , что обозначает минерал, «очень твёрдый камень, употреблявшийся прежде всего для высечения огня», а в своем переносном значении используется при характеристике человека, обладающего твёрдым характером. Таким образом, как представляется, и камни входят в класс живого .
Итак, фанерные ящики и человек как биологическое существо, различные предметы, животные и люди в своей «не биологической ипостаси», как лица с конкретными именами, живут в рассказе одной жизнью. Поэтому в принципе не существует различий в описании их качеств: все они - элементы одного класса. Живые, кричащие ящики - это не просто метафора. На наш взгляд, это своеобразный онтологический постулат.
Анализируя поэзию В. Шаламова, Е. Шкловский отмечает: «...у автора «Колымских тетрадей» мы имеем дело не просто с перенесением человеческих свойств на природу, не просто её очеловечиванием. Это не только поэтическое сближение двух миров, но их взаимопроникновение, их редкостная слитность, когда одно просвечивает сквозь другое. <...> Здесь есть чувство единой судьбы, единой участи - природы и человека, чувство во многом определяющее отношение Шаламова к природе в его поэзии» . В известной степени данное утверждение справедливо и по отношению к прозе В. Шаламова. Однако, соглашаясь в принципе с замечанием Е. Шкловского, мы считаем, что в связи с «Посылкой» более правильным было бы говорить не о «сближении двух миров», их «слитности», а именно об их отождествлении. По сути речь идет об одном мире - мире живого .
Джеффри Хоскинг, анализируя прозу Шаламова, также обратил внимание на «Shalamov"s selfidentification with rocks, stones and trees, with a basic life force» . Но, рассматривая рассказ «Посылка», мы хотели бы говорить не о самоидентификации Шаламова с камнями и пр., а скорее об онтологическом постулате. Правда, для нас остаётся неясным, идёт ли речь в данном случае только о жизни в лагере или о жизни вообще.
Сходства и различия между нашей позицией и позицией процитированных авторов указывают на то, что проблема определения места человека в природе является существенной для мировосприятия Шаламова. Сформулировать же эту проблему более точно, с учётом всего творчества писателя, а также определить её характер и значение - это задача будущих исследований.
2. Цвет
Может появиться ощущение всеохватности класса живого , объединяющего в рассказе людей, различные явления природы и предметы. /81/ Но это не так. Доказательством тому может служить описание сахара. Сахар явно противопоставляется льду:
«Вот эти голубые куски - это не лёд! Это сахар! Сахар! Сахар! Пройдёт ещё час, и я буду держать в руках эти куски, и они не будут таять. Они будут таять только во рту» (23).
Такое противопоставление наводит на мысль, что лёд исключается из того класса живого, в который входят (наравне с ящиками, махоркой и т.п.) продукты: сахар, хлеб, чернослив, мёрзлая капуста, масло и т.п. Кроме того, куски сахара у Шаламова, как видно из приведённого выше отрывка, не белые (или жёлто-белые), какими мы их обычно встречаем в действительности, а голубые . И это тоже не случайно. Белый цвет исключается из описаний людей, предметов и явлений, объединённых в класс живого, который охватывает в принципе все остальные цвета; в рассказе даны такие цвета, как чёрный (чернослив), синий (Синцов), голубой.
Первый раз белый цвет упоминается в связи с морозным туманом «в белом морозном тумане двигались какие-то незнакомые фигуры». Второй раз «белый» появляется в описании диалога Бойко и героя-рассказчика:
«Продай мне эти бурки. Я тебе денег дам. Сто рублей. Ты ведь до барака не донесёшь - отнимут, вырвут эти. - И Бойко ткнул пальцем в белый туман »(24).
Здесь «белый туман» - это нечто пугающее, отталкивающее, это место для тех, кто ворует бурки (а те, кто ворует, невольно ассоциируются у нас с «какими-то незнакомыми фигурами», о которых упоминалось выше). Наконец, белый цвет трижды появляется в заключительной части рассказа, где он вновь связывается с клубами морозного пара, а также с новыми полушубками десятников (интересно, что в последнем случае прилагательное белый оказывается в одном ряду с прилагательным вонючий , имеющим негативный оттенок значения):
«Жизнь возвращалась, как сновиденье, - снова раскрылись двери: белые клубы пара, прилегшие к полу, пробежавшие до дальней стены барака, люди в белых полушубках, вонючих от новизны, необношенности, и рухнувшее на пол что-то, не шевелящееся, но живое, хрюкающее.
Дневальный, в недоумённой, но почтительной позе склонившийся перед белыми тулупами десятников» (26).
Нам кажется очевидной имеющаяся параллель между приведённым отрывком, где наше внимание обращается на чистоту новых вонючих полушубков, и вступительной частью рассказа, где «люди с чистыми руками в чересчур аккуратной военной форме» выдавали посылки заключённым. В последнем случае белый цвет не упоминается, но у нас нет сомнения в том, что чистота и чрезмерная аккуратность «убийц» фанерных ящиков, а также белизна новых полушубков десятников и белизна пара, этих десятников сопровождающего, - явления одного порядка. И люди с чистыми руками в чересчур аккуратной военной форме, разбивающие фанерные ящики, и десятники в новых /82/ вонючих белых полушубках, как лёд и мороз, могут быть отнесены к одному классу - классу объектов, угрожающих живому. Сюда же следует причислить и начальника лагеря Коваленко. Вот как описывается его появление в бараке:
«Из облака морозного пара вышли двое военных. Один помоложе, - начальник лагеря Коваленко <...>.
Опять котелки! Вот я сейчас вам покажу котелки! Покажу, как грязь разводить!» (26)
Начальник лагеря предстаёт и перед своими подчинёнными и перед заключёнными этаким поборником чистоты , и поэтому, вероятно, тоже может быть причислен к разряду «объектов, угрожающих живому». Эта «чрезмерная чистота» связывается в рассказе с «белизной», а также с «морозом» и «льдом». Грязное же оказывается рядом с элементами совсем иного класса, класса живого («Ваш человек? - И смотритель показал на комок грязного тряпья на полу»).
3. Форма
То, без чего жизнь человека представляется невозможной, содержится в той или иной «ёмкости». Ефремов стал жертвой «мастеров», отбивших его нутро так, что это, кажется, внешне не было заметно. Посылки тоже имеют как своё «внутреннее», так и своё «внешнее»: «Ящики посылок» (23). В обоих случаях то, что оказывается важным для жизни, содержится в хрупких «сосудах»: например, еда и табак - в ящиках, котелке, сумке, торбочке, бушлате, куда попадает чернослив, кисете. Форму того или иного «сосуда» имеет и всё то, что согревает, защищает от холода и, следовательно, поддерживает жизнь: печка, на которую Ефремов кладёт свои руки, печная труба, у которой греет руки Рябов, сапоги. Но в этот разряд не входят продолговатые предметы-неёмкости, угрожающие жизни: полено, кайло, винтовка.
4. Ценности жизни
Стоит задаться вопросом: входят ли в качестве составных элементов в класс живого Коваленко и Андрей Бойко? Фамилия Коваленко образована от коваль (т.е. кузнец ), ковать , а Бойко ассоциируется с бойкий , что значит «решительный, находчивый, смелый», а также «живой, быстрый». Имя Андрей (от греческого “andreios”) - «смелый, мужественный» . В этом случае имена собственные не имеют связи ни с частями тела, ни с явлениями природы и вызывают представления, противоположные тем, которые вызывают сами герои, эти фамилии носящие.
«Мания чистоты» Коваленко входит в контраст с тем, что можно было бы ожидать от кузнеца («грязный», «чёрный»). То же самое можно было бы сказать и о его поступках. В отличие от кузнеца, который обычно производит , создаёт вещи из металла, Коваленко разрушает металлические предметы: пробивает дно котелков заключённых. Фамилия героя обозначает противоположное тому, чем сам этот герой является. То же самое можно было бы сказать и об Андрее Бойко. Бойко - не смелый и решительный, а напротив: «Бойко боялся» (24). На основании сказанною можно утверждать, что Коваленко и Бойко /83/ входят в иной класс, чем тот, который мы назвали «классом живого». И если мы попытаемся найти объяснение этому, мы найдём его. В то время, как класс живого охватывает живущие одной жизнью объекты, принадлежащие к органической и неорганической природе, другой класс объединяет в себе лёд, мороз, «белое», «чистое» и прочее, в той или иной степени представляющее собой угрозу живущему . Ассоциации, возникающие в связи с фамилиями Коваленко и Бойко и то, как ведут себя эти герои в рассказе, вызывают у нас представление о неких извращённых ценностях социального мира, что и позволяет нам отнести героев, носящих эти фамилии, к классу объектов, угрожающих жизни.
К этому же классу следует причислить и Шапаренко. Фамилия Шапаренко образована от существительного шапар (шафар ), что значит:
Как видно из диалога между героем и завмагом, их отношения далеко не денежные. В лагерных условиях «ключник» - король, а заключённый, осуждённый по 58-й статье, - никто. Фамилия Шапаренко не вызывает представлений об извращённых ценностях, но в контексте рассказа приобретает негативный оттенок.
Итак, положительные ценности извращены, а отрицательные «процветают».
Следует отметить, что В. Шаламов не проводит чёткой границы между заключёнными и персоналом лагеря, противопоставляя жертв и палачей, относя одних к классу живого, а других - к классу угрожающих жизни объектов. Начальник прииска Рябов появляется вместе с Коваленко из облака морозного пара, но (отчасти благодаря своей фамилии) не может быть отнесён к классу, к которому принадлежат Коваленко и Бойко. Его дальнейшее поведение подтверждает это: он не принимает участия в «разрушении», а его «глубокомысленное» замечание относительно того, что котелки - признак довольства, приравнивает его скорее к жене героя-рассказчика, не имевшей, по-видимому, представления о том, что происходило в реальной действительности. Вспомним также, что герой-рассказчик чуть не погибает от удара поленом. И удар этот наносит ему никто иной, как один из заключённых .
Принципиальным, основополагающим в рассказе является иное противопоставление: класса живого и класса объектов, так или иначе угрожающих живому. С первым классом связываются - кроме белого - различные цвета (включая чёрный), опредёленная форма, и кроме того - всё грязное. Ко второму классу следует отнести всё то, что угрожает жизни: лёд, холод, мороз, с ним так или иначе связано всё чистое, а также такие негативные человеческие качества, как трусость / страх, «разрушительность». По логике, с первым классом мы должны связать такие позитивные качества, как смелость, мужественность, созидательность. Ассоциации с ними рождают имена собственные, но в рассказе они не материализуются. У героев рассказа мы не найдём /84/ никаких позитивных чувств, свойств или ценностей, у них нет даже пассивного сочувствия. Когда у героя-рассказчика крадут масло и хлеб, заключённые реагируют на это «со злобной радостью» (25). Е. Шкловский отметил, что у Шаламова крайне мало рассказов, в которых изображается несломанный человек . Позитивные качества/ценности существуют в шаламовском универсуме, но в его рассказах они, как правило, не находят конкретного воплощения.
Филологические записки - Воронеж, 2001. - Вып. 17. - С. 78-85.
Примечания
Все права на распространение и использование произведений Варлама Шаламова принадлежат А.Л.. Использование материалов возможно только при согласовании с редакцией ed@сайт. Сайт создан в 2008-2009 гг. на средства гранта РГНФ № 08-03-12112в.
Читается за 10–15 мин
оригинал- за 4−5 ч
Сюжет рассказов В. Шаламова - тягостное описание тюремного и лагерного быта заключённых советского ГУЛАГа, их похожих одна на другую трагических судеб, в которых властвуют случай, беспощадный или милостивый, помощник или убийца, произвол начальников и блатных. Голод и его судорожное насыщение, измождение, мучительное умирание, медленное и почти столь же мучительное выздоровление, нравственное унижение и нравственная деградация - вот что находится постоянно в центре внимания писателя.
На представку
Лагерное растление, свидетельствует Шаламов, в большей или меньшей степени касалось всех и происходило в самых разных формах. Двое блатных играют в карты. Один из них проигрывается в пух и просит играть на «представку», то есть в долг. В какой-то момент, раззадоренный игрой, он неожиданно приказывает обычному заключённому из интеллигентов, случайно оказавшемуся среди зрителей их игры, отдать шерстяной свитер. Тот отказывается, и тогда кто-то из блатных «кончает» его, а свитер все равно достаётся блатарю.
Одиночный замер
Лагерный труд, однозначно определяемый Шаламовым как рабский, для писателя - форма того же растления. Доходяга-заключённый не способен дать процентную норму, поэтому труд становится пыткой и медленным умерщвлением. Зек Дугаев постепенно слабеет, не выдерживая шестнадцатичасового рабочего дня. Он возит, кайлит, сыплет, опять возит и опять кайлит, а вечером является смотритель и замеряет рулеткой сделанное Дугаевым. Названная цифра - 25 процентов - кажется Дугаеву очень большой, у него ноют икры, нестерпимо болят руки, плечи, голова, он даже потерял чувство голода. Чуть позже его вызывают к следователю, который задаёт привычные вопросы: имя, фамилия, статья, срок. А через день солдаты уводят Дугаева к глухому месту, огороженному высоким забором с колючей проволокой, откуда по ночам доносится стрекотание тракторов. Дугаев догадывается, зачем его сюда доставили и что жизнь его кончена. И он сожалеет лишь о том, что напрасно промучился последний день.
Шоковая терапия
Заключённый Мерзляков, человек крупного телосложения, оказавшись на общих работах, чувствует, что постепенно сдаёт. Однажды он падает, не может сразу встать и отказывается тащить бревно. Его избивают сначала свои, потом конвоиры, в лагерь его приносят - у него сломано ребро и боли в пояснице. И хотя боли быстро прошли, а ребро срослось, Мерзляков продолжает жаловаться и делает вид, что не может разогнуться, стремясь любой ценой оттянуть выписку на работу. Его отправляют в центральную больницу, в хирургическое отделение, а оттуда для исследования в нервное. У него есть шанс быть актированным, то есть списанным по болезни на волю. Вспоминая прииск, щемящий холод, миску пустого супчику, который он выпивал, даже не пользуясь ложкой, он концентрирует всю свою волю, чтобы не быть уличённым в обмане и отправленным на штрафной прииск. Однако и врач Петр Иванович, сам в прошлом заключённый, попался не промах. Профессиональное вытесняет в нем человеческое. Большую часть своего времени он тратит именно на разоблачение симулянтов. Это тешит его самолюбие: он отличный специалист и гордится тем, что сохранил свою квалификацию, несмотря на год общих работ. Он сразу понимает, что Мерзляков - симулянт, и предвкушает театральный эффект нового разоблачения. Сначала врач делает ему рауш-наркоз, во время которого тело Мерзлякова удаётся разогнуть, а ещё через неделю процедуру так называемой шоковой терапии, действие которой подобно приступу буйного сумасшествия или эпилептическому припадку. После неё заключённый сам просится на выписку.
Последний бой майора Пугачева
Среди героев прозы Шаламова есть и такие, кто не просто стремится выжить любой ценой, но и способен вмешаться в ход обстоятельств, постоять за себя, даже рискуя жизнью. По свидетельству автора, после войны 1941–1945 гг. в северо-восточные лагеря стали прибывать заключённые, воевавшие и прошедшие немецкий плен. Это люди иной закалки, «со смелостью, умением рисковать, верившие только в оружие. Командиры и солдаты, лётчики и разведчики...». Но главное, они обладали инстинктом свободы, который в них пробудила война. Они проливали свою кровь, жертвовали жизнью, видели смерть лицом к лицу. Они не были развращены лагерным рабством и не были ещё истощены до потери сил и воли. «Вина» же их заключалась в том, что они побывали в окружении или в плену. И майору Пугачеву, одному из таких, ещё не сломленных людей, ясно: «их привезли на смерть - сменить вот этих живых мертвецов», которых они встретили в советских лагерях. Тогда бывший майор собирает столь же решительных и сильных, себе под стать, заключённых, готовых либо умереть, либо стать свободными. В их группе - лётчики, разведчик, фельдшер, танкист. Они поняли, что их безвинно обрекли на гибель и что терять им нечего. Всю зиму готовят побег. Пугачев понял, что пережить зиму и после этого бежать могут только те, кто минует общие работы. И участники заговора, один за другим, продвигаются в обслугу: кто-то становится поваром, кто-то культоргом, кто чинит оружие в отряде охраны. Но вот наступает весна, а вместе с ней и намеченный день.
В пять часов утра на вахту постучали. Дежурный впускает лагерного повара-заключённого, пришедшего, как обычно, за ключами от кладовой. Через минуту дежурный оказывается задушенным, а один из заключённых переодевается в его форму. То же происходит и с другим, вернувшимся чуть позже дежурным. Дальше все идёт по плану Пугачева. Заговорщики врываются в помещение отряда охраны и, застрелив дежурного, завладевают оружием. Держа под прицелом внезапно разбуженных бойцов, они переодеваются в военную форму и запасаются провиантом. Выйдя за пределы лагеря, они останавливают на трассе грузовик, высаживают шофёра и продолжают путь уже на машине, пока не кончается бензин. После этого они уходят в тайгу. Ночью - первой ночью на свободе после долгих месяцев неволи - Пугачев, проснувшись, вспоминает свой побег из немецкого лагеря в 1944 г., переход через линию фронта, допрос в особом отделе, обвинение в шпионаже и приговор - двадцать пять лет тюрьмы. Вспоминает и приезды в немецкий лагерь эмиссаров генерала Власова, вербовавших русских солдат, убеждая их в том, что для советской власти все они, попавшие в плен, изменники Родины. Пугачев не верил им, пока сам не смог убедиться. Он с любовью оглядывает спящих товарищей, поверивших в него и протянувших руки к свободе, он знает, что они «лучше всех, достойнее всех». А чуть позже завязывается бой, последний безнадёжный бой между беглецами и окружившими их солдатами. Почти все из беглецов погибают, кроме одного, тяжело раненного, которого вылечивают, чтобы затем расстрелять. Только майору Пугачеву удаётся уйти, но он знает, затаившись в медвежьей берлоге, что его все равно найдут. Он не сожалеет о сделанном. Последний его выстрел - в себя.
Творчество Варлама Шаламова относится к русской литературе 20-го века, а сам Шаламов признан одним из самых выдающихся и талантливых писателей этого столетия.
Его произведения пропитаны реалистичностью и несгибаемым мужеством, а «Колымские рассказы», основное его художественное наследие, представляют собой ярчайший образец всех мотивов творчества Шаламова.
Каждая история, включенная в сборник рассказов, является достоверной, так как писателю самому пришлось пережить сталинский ГУЛАГ и все последовавшие за ним мучения лагерей.
Человек и тоталитарное государство
Как уже сказано раньше, «Колымские рассказы» посвящены той жизни, которую пришлось пережить невероятному количеству людей, прошедших безжалостные сталинские лагеря.
Тем самым, Шаламов поднимает основной нравственный вопрос той эпохи, раскрывает ключевую проблему того времени – это противостояние личности человека и тоталитарного государства, которое не щадит человеческих судеб.
Делает это Шаламов через изображение жизни людей, сосланных в лагеря, ведь это уже заключительный момент такого противостояния.
Шаламов не чурается суровой действительности и показывает всю реальность того так называемого «жизненного процесса», которая пожирает человеческие личности.
Изменения ценностей жизни человека
Помимо того, что писатель показывает то, насколько суровым, бесчеловечным и несправедливым наказанием это является, Шаламов делает акцент на том, в кого вынужден превращаться человек впоследствии лагерей.
Особенно ярко выделена это тема в рассказе «Сухим пайком», Шаламов показывает насколько воля и гнет государства подавляет личностное начало в человеке, насколько растворят его душу в этой злостной государственной машине.
Путем физических издевательств: постоянного голода и холода, людей превращали в зверей, ничего уже не осознающих вокруг, желающих лишь еды и тепла, отрицающих все человеческие чувства и переживания.
Ценностями жизни становятся элементарные вещи, которые трансформируют человеческую душу, превращают человека в животное. Все, что начинают желать люди – это выжить, все, что ими управляет – тупая и ограниченная жажда жизни, жажда просто быть.
Художественные приемы в «Колымских рассказах»
Эти практически документальные рассказы пронизаны тонкой, мощной философией и духом мужества и смелости. Многие критики выделяют особенную композицию всей книги, которая состоит из 33 рассказов, но при этом не теряет целостности.
Причем рассказы расположены не в хронологическом порядке, но от этого композиция не теряет смыслового назначения. Наоборот, у Шаламова рассказы расположены в особом порядке, который позволяет увидеть жизнь людей в лагерях полноценно, ощутить ее, как единый организм.
Художественные приемы, используемые писателем, поражают своей продуманностью. Шаламов использует лаконизм в описании кошмара, которые люди переживают в подобных нечеловеческих условиях.
Это создает еще более мощный и ощутимый эффект от того, что описывается – ведь он сухо и реалистично говорит о ужасе и боле, что и ему самому удалось пережить.
Но «Колымские истории» состоят из разных рассказов. Например, рассказ «Надгробное слово» пропитан невыносимой горечью и безысходностью, а рассказ «Шерри-бренди» показывает насколько человек выше обстоятельств и что для любая жизнь наполнена смыслом и истиной.
Михаил Юрьевич Михеев разрешил мне выложить в блоге главу из его готовящейся к изданию книги "Андрей Платонов… и другие. Языки русской литературы XX в." . Весьма ему благодарен.О заглавной Шаламовской притче, или возможном эпиграфе к «Колымским рассказам»
I О миниатюре «По снегу»
Миниатюру-зарисовку «По снегу» (1956), открывающую собой «Колымские рассказы», Францишек Апанович, на мой взгляд, очень точно назвал «символическим введением в колымскую прозу вообще», считая, что она играет по отношению ко всему целому роль своеобразного метатекста1. Я совершенно согласен с этой трактовкой. Обращает на себя внимание загадочно звучащая концовка этого самого первого текста в Шаламовском пяти
-книжии. «По снегу» следует признать своеобразным эпиграфом ко всем циклам «Колымских рассказов»2. Самая последняя фраза в этом первом рассказе-зарисовке звучит так:
А на тракторах и лошадях ездят не писатели, а читатели. ## («По снегу»)3
Как так? В каком смысле? - ведь если под писателем
Шаламов разумеет себя, а к читателям
относит нас с вами, то как мы
задействованы в самом тексте? Неужели он полагает, что мы тоже поедем на Колыму, будь то на тракторах или на лошадях? Или же под «читателями» имеются в виду - обслуга, охрана, ссыльные, вольнонаемные, начальство лагеря и т.п.? Кажется, что эта фраза концовки резко диссонирует с лирическим этюдом в целом и с предшествующими ей фразами, объясняющими конкретную «технологию» вытаптывания дороги по трудно проходимой Колымской снежной целине (но вовсе не - взаимоотношения читателей и писателей). Вот предшествующие ей фразы, из начала:
# Первому тяжелее всех, и когда он выбивается из сил, вперед выходит другой из той же головной пятерки. Из идущих по следу каждый, даже самый маленький, самый слабый, должен ступить на кусочек снежной целины, а не в чужой след4.
Т.е. на долю тех, кто едет, а не идет, достается жизнь «легкая» а тем, кто топчет, тропит дорогу, приходится основной труд. Вначале в этом месте рукописного текста первой фразой абзаца читателю давалась более внятная подсказка - как понимать следующую за ней концовку, поскольку начинался абзац с зачеркнутого:
# Вот так идет и литература. То тот, то другой, выходит вперед прокладывает путь, а из идущих по следу даже каждый, даже самый слабый, самый маленький должен ступить на кусочек снежной целины, а не в чужой след.
Однако в самом конце - без всякой правки, будто уже заготовленная заранее - стояла финальная фраза, в которой сосредоточен смысл иносказания и как бы суть целого, загадочный Шаламовский символ:
А на тракторах и лошадях ездят не писатели, а читатели.5 ##
Однако собственно про тех, кто ездит на тракторах и на лошадях
, до этого в тексте «По снегу», да и в последующих рассказах - ни во втором, ни в третьем, ни в четвертом («На представку» 1956; «Ночью»6 1954, «Плотники» 1954) - вообще-то не говорится7. Возникает смысловая лакуна, которую читатель не знает, чем заполнить, а писатель, по-видимому, и добивался этого? Тем самым как бы явлена первая Шаламовская притча - не прямо, но косвенно выраженный, подразумеваемый смысл.
Я благодарен за помощь в ее истолковании - Францишеку Апановичу. Ранее он уже писал обо всем рассказе в целом:
Возникает впечатление, что здесь нет рассказчика, есть только этот странный мир, который вырастает сам по себе из скупых слов рассказа. Но и такой - миметический - стиль восприятия опровергается последним предложением очерка, совершенно непонятным с этой точки зрения <…> если понять [его] дословно, надо бы прийти к нелепому выводу, что в лагерях на Колыме вытаптывают дороги только писатели. Абсурдность такого вывода заставляет реинтерпретировать это предложение и понять его как своего рода метатекстовое высказывание, принадлежащее не рассказчику, а некоему другому субъекту, и воспринимаемое как голос самого автора8.
Как мне кажется, текст Шаламова дает тут намеренный сбой. Читатель теряет нить рассказа и контакт с рассказчиком, не понимая, где кто из них. Смысл загадочной финальной фразы можно истолковать и как некий упрек: заключенные пробивают дорогу, в снежной целине
, - намеренно не идя
друг за другом в след, не топчут общую
тропу и вообще поступают не так
, как читатель
, который привык пользоваться уже готовыми средствами, установленными кем-то до него нормами (руководствуясь, например, тем, какие книги сейчас модны, или какие «приемы» в ходу у писателей), а - поступают именно как настоящие писатели
: стараются ставить ногу отдельно, идя каждый своим путем
, пролагая путь для тех, кто идет за ними. И только редким из них - т.е. той самой пятерке избранных первопроходцев - доводится на какое-то короткое время, пока они не выбьются из сил, пробивать эту нужную дорогу - для тех, кто едет следом, на санях и на тракторах. Писатели, с точки зрения Шаламова, и должны - прямо обязаны, если, конечно, они настоящие писатели, двигаться по целине («своей колеей», как позже споет об этом Высоцкий). То есть вот они-то как раз, в отличие от нас, простых смертных, не ездят на тракторах и лошадях. Шаламов приглашает еще и читателя - на место тех, кто торит дорогу. Загадочная фраза превращается в насыщенный символ всего Колымского эпоса. Ведь как мы знаем, у Шаламова деталь - мощнейшая художественная подробность, ставшая символом, образом («Записные книжки», между апрелем и маем 1960).
Дмитрий Нич заметил: на его взгляд, этот же текст как «эпиграф» перекликается еще и с первым текстом в цикле «Воскрешение лиственницы» - гораздо более поздней зарисовкой «Тропа» (1967)9. Вспомним, что там происходит и что стоит как бы за кадром происходящего: рассказчик находит «свою» тропу (здесь повествование - персонифицировано, в отличие от «По снегу», где оно безлично10) - тропу, по которой он ходит в одиночестве, в течение почти трех лет, и на которой у него рождаются стихи. Однако как только оказывается, что эта приглянувшаяся ему, исхоженная, взятая как бы в собственность дорожка открыта еще и кем-то другим (он замечает на ней чей-то чужой след), она лишается своего чудотворного свойства:
В тайге у меня была тропа чудесная. Сам я ее проложил летом, когда запасал дрова на зиму. (…) Тропа с каждым днем все темнела и в конце концов стала обыкновенной темно-серой горной тропой. Никто, кроме меня, по ней не ходил. (…) # Я по этой собственной тропе ходил почти три года. На ней хорошо писались стихи. Бывало, вернешься из поездки, соберешься на тропу и непременно какую-нибудь строфу выходишь на этой тропе. (…) А на третье лето по моей тропе прошел человек. Меня в то время не было дома, я не знаю, был ли это какой-нибудь странствующий геолог, или пеший горный почтальон, или охотник - человек оставил следы тяжелых сапог. С той поры на этой тропе стихи не писались.
Итак, в отличие от эпиграфа к первому циклу («По снегу»), тут, в «Тропе», акцент смещается: во-первых, само действие не коллективно, а - подчеркнуто индивидуально, даже индивидулистично. То есть эффект от топтания самой дороги другими, товарищами, в первом случае - только усиливался, упрочивался, а здесь, во втором, в тексте, написанном через более чем десяток лет, - пропадает из-за того, что на тропу вступил кто-то другой. В то время как в «По снегу» сам мотив ‘ступать только на целину, а не след в след’ перекрывался эффектом «коллективной пользы» - все муки первопроходцев и нужны были только для того, чтобы дальше, уже вслед за ними, ехали на лошадях и тракторах читатели. (Автор не вдавался в подробности, ну, а нужна ли вообще эта езда?) Теперь же как будто никакой читатель и альтруистическая польза уже не просматривается и не предусматривается. Здесь можно уловить определенное психологическое смещение. Или даже - намеренный уход автора от читателя.
II Признание - в школьном сочинении
Как ни странно, взгляды самого Шаламова на то, какова должна быть «новая проза», и к чему, собственно, должен стремиться современный писатель, наиболее отчетливо представлены не в его письмах, не в записных книжках и не в трактатах, а - в эссе, или попросту «школьном сочинении», написанном в 1956-м году - за
Ирину Емельянову, дочь Ольги Ивинской (с последней Шаламов был знаком еще с 30-х годов), при поступлении этой самой Ирины - в Литературный институт. В результате сам текст, составленный Шаламовым намеренно несколько по-школьному, во-первых, получил от экзаменатора, Н.Б. Томашевского, сына известного пушкиниста, «сверхположительный отзыв» (там же, с.130-1)11 , а во-вторых, по счастливому стечению обстоятельств - многое может теперь нам прояснить из воззрений на литературу самого Шаламова, уже вполне созревшего к 50-м годам для своей прозы, но в ту пору, как представляется, еще не слишком «замутнявшего» свои эстетические принципы, что явно делал впоследствии. Вот как на примере рассказов Хемингуэя «Что-то кончилось» (1925) он иллюстрирует захвативший его метод редукции деталей и возведения прозы к символам:
Герои его [рассказа] имеют имена, но уже не имеют фамилий. У них уже нет биографии. <…> Из общего темного фона «нашего времени» выхвачен эпизод. Здесь почти только изображение. Пейзаж в начале нужен не как конкретный фон, но как исключительно эмоциональное сопровождение…. В этом рассказе Хемингуэй пользуется своим излюбленным методом - изображением. <…> # Возьмем рассказ еще одного периода Хемингуэя - «Там, где чисто, светло»12. # У героев уже даже нет имен. <…> Берется даже уже не эпизод. Действия нет совсем <…>. Это кадр. <…> # [Это] - один из наиболее ярких и замечательных рассказов Хемингуэя. Там все доведено до символа. <…> # Путь от ранних рассказов до «Чисто, светло» - это путь освобождения от бытовых, несколько натуралистических деталей. <…> Это принципы подтекста, лаконизма. «<…> Величавость движения айсберга в том, что он только на одну восьмую возвышается над поверхностью воды»13. Языковые приемы, тропы, метафоры, сравнения, пейзаж как функция стиля Хемингуэй сводит к минимуму. # …диалоги любого рассказа Хемингуэя - это та самая восьмая часть айсберга, которая видна на поверхности. # Конечно, это умолчание о самом главном требует от читателя особой культуры, внимательного чтения, внутреннего созвучия с чувствами хемингуэевских героев. <…> # Пейзаж у Хемингуэя так же сравнительно нейтрален. Обычно пейзаж Хемингуэй дает в начале рассказа. Принцип драматического построения - как в пьесе - перед началом действия автор указывает в ремарках фон, декорацию. Если пейзаж повторяется еще раз в течение рассказа, то, по большей части, тот же самый, что и в начале. # <…> # Возьмем пейзаж Чехова. Например, из «Палаты № 6». Рассказ также начинается пейзажем. Но этот пейзаж уже эмоционально окрашен. Он более тенденциозен, чем у Хемингуэя. <…> # У Хемингуэя есть собственные, изобретенные им самим, стилистические приемы. Например, в сборнике рассказов «В наше время» это своего рода реминисценции, предпосланные к рассказу. Это и знаменитые ключевые фразы, в которых сосредотачивается эмоциональный пафос рассказа. <…> # Трудно сразу сказать, какова задача реминисценций. Это зависит и от рассказа, и от содержания самих реминисценций14.
Итак, лаконизм, умолчания, сокращение места для пейзажа и - показ как бы только отдельных «кадров» - вместо развернутых описаний, да еще обязательное избавление от сравнений и метафор, этой набившей оскомину «литературщины», изгнание из текста тенденциозности, роль подтекста, ключевых фраз, реминисценций - здесь буквально все принципы прозы самого Шаламова оказываются перечислены! Кажется, что ни позже (в трактате, изложенном в письме к И.П. Сиротинской «О прозе», ни в письмах Ю.А. Шрейдеру), ни в дневниках и записных книжках, он нигде с такой последовательностью так и не изложил своей теории новой
прозы.
Вот что, пожалуй, все-таки никак не удавалось Шаламову - но к чему он постоянно стремился - это сдерживать слишком прямое, непосредственное выражение своих мыслей и чувств, заключая главное из рассказа - в подтекст и избегая категорических прямых заявлений и оценок. Идеалы его были как будто - вполне Платоновские (или, может быть, в его представлении - Хемингуэевские). Сравним такую оценку наиболее «Хемингуэевского», как считается обычно для Платонова, «Третьего сына»:
Третий сын искупил грех своих братьев, устроивших дебош рядом с трупом матери. Но у Платонова нет и тени их осуждения, он вообще воздерживается от каких бы то ни было оценок, в его арсенале только факты и образы. Это, в некотором роде, идеал Хемингуэя, упорно стремившегося вытравить любые оценки из своих произведений: он практически никогда не сообщал мыслей героев - только их действия, старательно вычеркивал в рукописях все обороты, начинавшиеся со слова “как”, его знаменитое высказывание об одной восьмой части айсберга в большой степени касалось оценок и эмоций. В спокойной, неторопливой прозе Платонова айсберг эмоций не то что не высовывается ни на какую часть - за ним надо нырять на солидную глубину15.
Здесь можно только добавить, что у Шаламова его собственный «айсберг» все-таки в состоянии «вот-вот переворачивания»: в каждом «цикле» (и по многу раз) он-таки демонстрирует нам свою подводную часть… Политический, да и просто житейский, «болельщицкий» темперамент этого писателя всегда зашкаливал, он никак не мог удержать повествование в рамках бесстрастности.
1 Апанович Ф. О семантических функциях интертекстуальных связей в «Колымских рассказах» Варлама Шаламова // IV Международные Шаламовские чтения. Москва, 18-19 июня 1997 г.:
Тезисы докладов и сообщений. - М.: Республика, 1997, с.40-52 (со ссылкой на Apanowicz F. Nowa proza Warlama Szalamowa. Problemy wypowiedzi artystycznej. Gdansk, 1996. S. 101-103) http://www.booksite.ru/varlam/reading_IV_09.htm
2 Автор работал над ними (включая «Воскрешение лиственницы» и «Перчатку») двадцать лет - с 1954 по 1973 год. Можно считать их пяти- или даже шестикнижием - в зависимости от того, относить ли к КР «Очерки преступного мира», стоящие несколько в стороне.
3 Знаком # обозначаю начало (или конец) нового абзаца в цитате; знаком ## - конец (или начало) всего текста - М.М.
4 Как бы рефреном дается здесь модальность долженствования
. Она обращена автором к самому себе, но значит, и - к читателю. Потом она будет повторена и во многих других рассказах, как, например, в финале следующего («На представку»): Теперь надо было искать другого партнера для пилки дров.
5 Рукопись «По снегу» (шифр в РГАЛИ 2596-2-2 - на сайте http://shalamov.ru/manuscripts/text/2/1.html). Основной текст, правка и заглавие в рукописи - карандашом. А наверху над названием, по-видимому, предполагавшееся первоначально название всего цикла - Северные рисунки?
6 Как можно видеть по рукописи (http://shalamov.ru/manuscripts/text/5/1.html), первоначальное название этой новеллы, затем перечеркнутое, было «Белье» - здесь слово в кавычках или же это по обе стороны знаки нового абзаца «Z» ? - То есть [ «Белье» Ночью] или: [ zБельеz Ночью]. Вот и название рассказа «Кант» (1956) - в рукописи в кавычках, они оставлены и в американском издании Р.Гуля («Новый Журнал» № 85 1966) и во французском издании М.Геллера (1982), но почему-то их нет в издании Сиротинской. - Т.е., непонятно: кавычки сняты были самим автором, в каких-то позднейших редакциях - или же это недосмотр (самоуправство?) издателя. Согласно рукописи, кавычки встречаем и во многих других местах, где читатель сталкивается со специфически лагерными терминами (например, и в названии рассказа «На представку»).
7 Про трактора впервые еще раз будет упомянуто только в концовке «Одиночного замера» (1955), т.е. через три рассказа от начала. Первый же намек про езду на лошадях в том же цикле - в рассказе «Заклинатель змей», т.е. уже через 16 рассказов от этого. Ну, а про лошадей в санных обозах - в «Шоковой терапии» (1956), через 27 рассказов, уже ближе к концу всего цикла.
8 Franciszek Apanowicz, „Nowa proza” Warłama Szałamowa. Problemy wypowiedzi artystycznej, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1986, s. 101-193 (перевод самого автора). Вот и в личной переписке, Францишек Апанович добавляет: «Шаламов был убежден, что он прокладывает в литературе новую дорогу, по которой еще не ступала нога человека. Он не только себя видел как первооткрывателя, но считал, что таких писателей, пробивающих новые дороги, немного. <…> Ну и - в символическом плане дорогу здесь топчут писатели (я бы даже сказал - вообще художники), а не читатели, о которых мы ничего не узнаем, кроме того, что они ездят на тракторах и лошадях».
9 Это некое стихотворение в прозе, замечает Нич: «тропа только до тех пор служит путем к поэзии, пока по ней не прошел другой человек. То есть по чужим следам поэт или писатель ступать не может» (в переписке по электронной почте).
10 Как топчут
дорогу по снежной целине? (…) Дороги всегда прокладывают
в тихие дни, чтоб ветры не замели людских трудов. Человек сам намечает
себе ориентиры в бескрайности снежной: скалу, высокое дерево … (подчеркивания мои - М.М.).
11 Ирина Емельянова. Неизвестные страницы Варлама Шаламова или История одного «поступления» // Грани №241-242, янв.-июнь 2012. Тарусские страницы. Том 1, Москва-Париж-Мюнхен-Сан-Франциско, с.131-2) - также на сайте http://shalamov.ru/memory/178/
12 [Рассказ был опубликован в 1926.]
13 [Шаламов цитирует самого Хемингуэя, без точной ссылки на