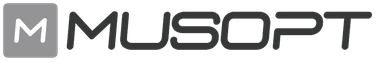Поэтика это наука о системе средств выражения в литературных произведениях, одна из старейших дисциплин литературоведения. В расширенном смысле слова поэтика совпадает с теорией литературы, в суженном - с одной из областей теоретической поэтики. Как область теории литературы, поэтика изучает специфику литературных родов и жанров, течений и направлений, стилей и методов, исследует законы внутренней связи и соотношения различных уровней художественного целого. В зависимости от того, какой аспект (и объем понятия) выдвигается в центр исследования, говорят, например, о поэтике романтизма, поэтике романа, поэтике творчества какого-либо писателя в целом или одного произведения. Поскольку все средства выражения в литературе в конечном счете сводятся к языку, поэтика может быть определена и как наука о художественном использовании средств языка (см. ). Словесный (то-есть языковой) текст произведения является единственной материальной формой существования его содержания; по нему сознание читателей и исследователей реконструирует содержание произведения, стремясь или воссоздать его место в культуре его времени («чем был Гамлет для Шекспира?»), или вписать его в культуру меняющихся эпох («что значит Гамлет для нас?»); но и тот и другой подходы опираются в конечном счете на словесный текст, исследуемый поэтикой. Отсюда - важность поэтики в системе отраслей литературоведения.
Целью поэтики является выделение и систематизация элементов текста , участвующих в формировании эстетического впечатления от произведения. В конечном счете в этом участвуют все элементы художественной речи, но в различной степени: например, в лирических стихах малую роль играют элементы сюжета и большую - ритмика и фоника, а в повествовательной прозе - наоборот. Всякая культура имеет свой набор средств, выделяющих литературные произведения на фоне нелитературных: ограничения накладываются на ритмику (стих), лексику и синтаксис («поэтический язык»), тематику (излюбленные типы героев и событий). На фоне этой системы средств не менее сильным эстетическим возбудителем являются и ее нарушения: «прозаизмы» в поэзии, введение новых, нетрадиционных тем в прозе и пр. Исследователь, принадлежащий к той же культуре, что и исследуемое произведение, лучше ощущает эти поэтические перебои, а фон их воспринимает как нечто само собой разумеющееся; исследователь чужой культуры, наоборот, прежде всего ощущает общую систему приемов (преимущественно в ее отличиях от привычной ему) и меньше - систему ее нарушений. Исследование поэтической системы «изнутри» данной культуры приводит к построению нормативной поэтики (более осознанной, как в эпоху классицизма, или менее осознанной, как в европейской литературе 19 века), исследование «извне» - к построению описательной поэтики. До 19 века, пока региональные литературы были замкнуты и традиционалистичны, господствовал нормативный тип поэтики; становление всемирной литературы (начиная с эпохи романтизма) выдвигает на первый план задачу создания описательной поэтики. Обычно различаются поэтика общая (теоретическая или систематическая - «макропоэтика»), частная (или собственно описательная - «микропоэтика») и историческая.
Общая поэтика
Общая поэтика делится на три области , изучающие соответственно звуковое, словесное и образное строение текста; цель общей поэтики - составить полный систематизированный репертуар приемов (эстетически действенных элементов), охватывающих все эти три области. В звуковом строе произведения изучается фоника и ритмика, а применительно к стиху-также метрика и строфика. Так-как преимущественный материал для изучения здесь дают стихотворные тексты, то эта область часто называется (слишком узко) стиховедением. В словесном строе изучаются особенности лексики, морфологии и синтаксиса произведения; соответствующая область называется стилистикой (насколько совпадают между собой стилистика как литературоведческая и как лингвистическая дисциплина, единого мнения нет). Особенности лексики («отбор слов») и синтаксиса («соединение слов») издавна изучались поэтикой и риторикой, где они учитывались как стилистические фигуры и тропы; особенности морфологии («поэзия грамматики») стали в поэтике предметом рассмотрения лишь в самое последнее время. В образном строе произведения изучаются образы (персонажи и предметы), мотивы (действия и поступки), сюжеты (связные совокупности действий); эта область называется «топикой» (традиционное название), «тематикой» (Б.В.Томашевский) или «поэтика» в узком смысле слова (Б.Ярхо). Если стиховедение и стилистика разрабатывались в поэтику с древнейших времен, то топика, наоборот, разрабатывалась мало, так-как казалось, что художественный мир произведения ничем не отличается от действительного мира; поэтому здесь еще не выработана даже общепринятая классификация материала.
Частная поэтика
Частная поэтика занимается описанием литературного произведения во всех перечисленных выше аспектах, что позволяет создать «модель» - индивидуальную систему эстетически действенных свойств произведения. Главная проблема частной поэтики - композиция, то-есть взаимная соотнесенность всех эстетически значимых элементов произведения (композиция фоническая, метрическая, стилистическая, образносюжетная и общая, их объединяющая) в их функциональной взаимности с художественным целым. Здесь существенна разница между малой и большой литературной формой: в малой (например, в пословице) число связей между элементами хоть и велико, но не неисчерпаемо, и роль каждого в системе целого может быть показана всесторонне; в большой форме это невозможно, и, значит, часть внутренних связей остается неучтенной как эстетически неощутимая (например, связи между фоникой и сюжетом). При этом следует помнить, что одни связи актуальны при первочтении текста (когда ожидания читателя еще не ориентированы) и отбрасываются при перечтении, другие - наоборот. Конечными понятиями, к которым могут быть возведены при анализе все средства выражения, являются «образ мира» (с его основными характеристиками, художественным временем и художественным пространством) и «образ автора», взаимодействие которых дает «точку зрения», определяющую все главное в структуре произведения. Эти три понятия выдвинулись в поэтике на опыте изучения литературы 12-20 веков; до этого европейская поэтика довольствовалась упрощенным различением трех литературных родов: драмы (дающей образ мира), лирики (дающей образ автора) и промежуточного между ними эпоса (так у Аристотеля). Основой частной поэтики («микропоэтики») являются описания отдельного произведения, но возможны и более обобщенные описания групп произведений (одного цикла, одного автора, жанра, литературного направления, исторической эпохи). Такие описания могут быть формализованы до перечня исходных элементов модели и списка правил их соединения; в результате последовательного применения этих правил как бы имитируется процесс постепенного создания произведения от тематического и идейного замысла до окончательного словесного оформления (так называемая генеративная поэтика).
Историческая поэтика
Историческая поэтика изучает эволюцию отдельных поэтических приемов и их систем с помощью сравнительно-исторического литературоведения, выявляя общие черты поэтических систем различных культур и сводя их или (генетически) к общему источнику, или (типологически) к универсальным закономерностям человеческого сознания. Корни литературной словесности уходят в устную словесность, которая и представляет собой основной материал исторической поэтики, позволяющий иногда реконструировать ход развития отдельных образов, стилистических фигур и стихотворных размеров до глубокой (например, общеиндоевропейской) древности. Главная проблема исторической поэтики - жанр в самом широком смысле слова, от художественной словесности в целом до таких ее разновидностей, как «европейская любовная элегия», «классицистическая трагедия», «светская повесть», «психологический роман» и пр., - то-есть исторически сложившаяся совокупность поэтических элементов разного рода, невыводимых друг из друга, но ассоциирующихся друг с другом в результате долгого сосуществования. И границы, отделяющие литературу от нелитературы, и границы, отделяющие жанр от жанра, изменчивы, причем эпохи относительной устойчивости этих поэтических систем чередуются с эпохами деканонизации и формотворчества; эти изменения и изучаются исторической поэтикой. Здесь существенна разница между близкими и исторически (или географически) далекими поэтическими системами: последние обычно представляются более каноничными и безличными, а первые - более разнообразными и своеобразными, но обычно это - иллюзия. В традиционной нормативной поэтики жанры рассматривались общей поэтикой как общезначимая, от природы установленная система.
Европейская поэтика
По мере накопления опыта почти каждая национальная литература (фольклор) в эпоху древности и Средневековья создавала свою поэтику - свод традиционных для нее «правил» стихотворства, «каталог» излюбленных образов, метафор, жанров, поэтических форм, способов развертывания темы и т.д. Такие «поэтики» (своеобразная «память» национальной литературы, закрепляющая художественный опыт, наставление потомкам) ориентировали читателя на следование устойчивым поэтическим нормам, освященным многовековой традицией, - поэтическим канонам. Начало теоретического осмысления поэзии в Европе относится к 5-4 векам до н.э. - в учениях софистов, эстетике Платона и Аристотеля, впервые обосновавших деление на литературные роды: эпос, лирику, драму; в связную систему античная поэтика была приведена «грамматиками» александрийского времени (3-1 века до н.э.). Поэтика как искусство «подражания» действительности (см. ) четко отделялась от риторики как искусства убеждения. Различение «чему подражать» и «как подражать» привело к различению понятий содержания и формы. Содержание определялось как «подражание событиям истинным или вымышленным»; в соответствии с этим различались «история» (рассказ о действительных событиях, как в исторической поэме), «миф» (материал традиционных сказаний, как в эпосе и трагедии) и «вымысел» (оригинальные сюжеты, разрабатываемые в комедии). К «чисто-подражательным» родам и жанрам относили трагедию и комедию; к «смешанным» - эпос и лирику (элегия, ямб и песня; иногда упоминались и позднейшие жанры, сатира и буколика); «чисто-повествовательным» считался разве что дидактический эпос. Поэтика отдельных родов и жанров описывалась мало; классический образец такого описания дал Аристотель для трагедии («Об искусстве поэзии», 4 век до н.э.), выделив в ней «характеры» и «сказание» (т.е. мифологический сюжет), а в последнем - завязку, развязку и между ними «перелом» («перипетию»), частным случаем которого является «узнавание». Форма определялась как «речь, заключенная в размер». Изучение «речи» обычно отходило в ведение риторики; здесь выделялись «отбор слов», «сочетание слов» и «украшения слов» (тропы и фигуры с детальной классификацией), а различные сочетания этих приемов сводились сперва в систему стилей (высокий, средний и низкий, или «сильный», «цветистый» и «простой»), а потом в систему качеств («величавость», «суровость», «блистательность», «живость», «сладость» и т.д.). Изучение «размеров» (строение слога, стопы, сочетания стоп, стиха, строфы) составляло особую отрасль поэтики - метрику, колебавшуюся между чисто-языковыми и музыкальными критериями анализа. Конечная цель поэзии определялась как «услаждать» (эпикурейцы), «поучать» (стоики), «услаждать и поучать» (школьная эклектика); соответственно в поэзии и поэте ценились «фантазия» и «знание» действительности.
В целом античная поэтика, в отличие от риторики, не была нормативной и учила не столько предуказанно создавать, сколько описывать (хотя бы на школьном уровне) произведения поэзии. Положение изменилось в средние века, когда сочинение латинских стихов само стало достоянием школы. Здесь поэтика приобретает форму правил и включает отдельные пункты из риторики, например, о выборе материала, о распространении и сокращении, об описаниях и речах (Матвей Вандомский, Иоанн Гарландский и др.). В таком виде она дошла до эпохи Возрождения и здесь была обогащена изучением сохранившихся памятников античной поэтики: (а) риторики (Цицерон, Квинтилиан), (б) «Науки поэзии» Горация, (в) «Поэтики» Аристотеля и другими сочинениями Аристотеля и Платона. Обсуждению подвергались те же проблемы, что и в античности, целью был свод и унификация разрозненных элементов традиции; ближе всего к этой цели подошел Ю.Ц.Скалигер в своей «Поэтике» (1561). Окончательно поэтика оформилась в иерархическую систему правил и предписаний в эпоху классицизма; программное произведение классицизма - «Поэтическое искусство» Н.Буало (1674) - не случайно написано в форме поэмы, имитирующей «Науку поэзии» Горация, самую нормативную из античных поэтик.
До 18 века поэтика была в основном стихотворных, и притом «высоких», жанров. Из прозаических жанров привлекались плавным образом жанры торжественной, ораторской речи, для изучения которой существовала риторика, накопившая богатый материал для классификации и описания явлений литературного языка, но при этом имевшая нормативно-догматический характер. Попытки теоретического анализа природы художественно-прозаических жанров (например, романа) возникают первоначально вне области специальной, «чистой» поэтики. Лишь просветители (Г.Э.Лессинг, Д.Дидро) в борьбе с классицизмом наносят первый удар догматизму старой поэтики.
Еще существеннее было проникновение в поэтику исторических идей, связанное на Западе с именами Дж.Вико и И.Г.Гердера, утвердивших представление о взаимосвязи законов развития языка, фольклора и литературы и об их исторической изменчивости в ходе развития человеческого общества, эволюции его материальной и духовной культуры. Гердер, И.В.Гёте, а затем романтики включили в область поэтики изучение фольклора и прозаических жанров (см. ), положив начало широкому пониманию поэтики как философского учения о всеобщих формах развития и эволюции поэзии (литературы), которое на основе идеалистической диалектики было систематизировано Гегелем в 3-м томе его «Лекций по эстетике» (1838).
Старейший сохранившийся трактат по поэтике, известный в Древней Руси, - «Об образех» византийского писателя Георгия Хиробоска (6-7 века) в рукописном «Изборнике» Святослава (1073). В конце 17 - начале 18 веков в России и на Украине возникает ряд школьных «поэтик» для обучения поэзии и красноречию (например, «De arte poetica» Феофана Прокоповича, 1705, опубликованной в 1786 на латинском языке). Значительную роль в развитии научной поэтики в России сыграли М.В.Ломоносов и В.К.Тредиаковский, а в начале 19 в. - А.Х.Востоков. Большую ценность для поэтики представляют суждения о литературе А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, И.С.Тургенева, Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова и др., теоретические идеи Н.И.Надеждина, В.Г.Белинского («Разделение поэзии на роды и виды», 1841), Н.А.Добролюбова. Они подготовили почву для возникновения во второй половине 19 века в России поэтика как особой научной дисциплины, представленной трудами А.А.Потебни и родоначальника исторической поэтики- А.Н.Веееловского.
Веселовский, выдвинувший исторический подход и саму программу исторической поэтики, противопоставил умозрительности и априоризму классической эстетики «индуктивную» поэтику, основанную исключительно на фактах исторического движения литературной форм, которое он ставил в зависимость от общественной, культурно-исторической и других внеэстетических факторов (см. ). Вместе с тем Веселовский обосновывает очень важное для поэтики положение об относительной автономии поэтического стиля от содержания, о собственных законах развития литературных форм, не менее устойчивых, чем формулы обыденного языка. Движение литературных форм рассматривается им как развитие объективных, внеположных конкретному сознанию данностей.
В противоположность этому подходу психологическая школа рассматривала искусство как процесс, протекающий в сознании творящего и воспринимающего субъекта. В основу теории основателя психологической школы в России Потебни была положена идея В.Гумбольдта о языке как деятельности. Слово (и художественные произведения) не просто закрепляет мысль, не «оформляет» уже известную идею, но строит и формирует ее. Заслугой Потебни явилось противопоставление прозы и поэзии как принципиально различных способов выражения, оказавшее (через модификацию этой идеи в формальной школе) большое влияние на современную теорию поэтики. В центре лингвистической поэтики Потебни стоит понятие внутренней формы слова , являющейся источником образности поэтического языка и литературного произведения в целом, структура которого аналогична строению отдельного слова. Цель научного изучения художественного текста, по Потебне, - не разъяснение содержания (это дело литературной критики), но анализ образа, единств, устойчивой данности произведения, при всей бесконечной изменчивости того содержания, которое он вызывает. Апеллируя к сознанию, Потебня, однако, стремился к изучению структурных элементов самого текста. Последователи ученого (А.Г.Горнфельд, В.И.Харциев и др.) не пошли в этом направлении, они обращались прежде всего к «личному душевному складу» поэта, «психологическому диагнозу» (Д.Н.Овсянико-Куликовский), расширив потебнианскую теорию возникновения и восприятия слова до зыбких пределов «психологии творчества».
Антипсихологический (и шире - антифилософский) и спецификаторский пафос поэтики 20 века связан с течениями в европейском искусствознании (начиная с 1880-х), рассматривавшими искусство как самостоятельную обособленную сферу человеческой деятельности, изучением которой должна заниматься специальная дисциплина, отграниченная от эстетики с ее психологическими, этическими и т.п. категориями (Х.фон Маре). «Искусство может быть познано лишь на его собственных путях» (К.Фидлер). Одной из важнейших категорий провозглашается видение, различное в каждую эпоху, чем объясняются различия в искусстве этих эпох. Г.Вёльфлин в книге «Основные понятия истории искусства» (1915) сформулировал основные принципы типологического анализа художественных стилей, предложив простую схему бинарных оппозиций (противопоставление стилей Возрождения и барокко как явлений художественно равноправных). Типологические противопоставления Вёльфлина (а также Г.Зиммеля) переносил на литературу О.Вальцель, рассматривавший историю литературных форм внеличностно, предлагая «ради творения забыть о самом творце». Напротив, теории, связанные с именами К.Фосслера (испытавшего влияние Б.Кроче), Л.Шпитцера, в историческом движении литературы и самого языка решающую роль отводили индивидуальному почину поэта-законодателя, затем лишь закрепляемому в художественном и языковом узусе эпохи.
Наиболее активно требование рассмотрения художественного произведения как такового, в его собственных специфических закономерностях (отделенных от всех факторов внелитературных) выдвинула русская формальная школа (первое выступление - книга В.Б.Шкловского «Воскрешение слова» (1914); далее школа получила название ОПОЯЗ).
Уже в первых выступлениях (отчасти под влиянием Потебни и эстетики футуризма) было провозглашено противопоставление практического и поэтического языка, в котором коммуникативная функция сведена к минимуму и «в светлом поле сознания» оказывается слово с установкой на выражение, «самоценное» слово, где актуализируются языковые явления, в обычной речи нейтральные (фонетические элементы, ритмомелодика и пр.). Отсюда ориентация школы не на философию и эстетику, но на лингвистику. Позже в сферу исследований были вовлечены и проблемы семантики стиховой речи (Ю.Н.Тынянов. «Проблема стихотворного языка», 1924); тыняновская идея глубокого воздействия словесной конструкции на значение оказала влияние на последующие исследования.
Центральная категория «формального метода» - выведение явления из автоматизма обыденного восприятия, остранение (Шкловский). С ним связаны не только феномены поэтического языка; это общее для всего искусства положение проявляется и на уровне сюжета. Так была высказана идея изоморфизма уровней художественной системы. Отказавшись от традиционного понимания формы, формалисты ввели категорию материала. Материал - это то, что существует вне художественного произведения и что можно описать, не прибегая к искусству, рассказать «своими словами». Форма же - это «закон построения предмета», т.е. реальное расположение материала в произведениях, его конструкция, композиция. Правда, одновременно было провозглашено, что произведения искусства «не материал, а соотношение материалов». Последовательное развитие этой точки зрения приводит к выводу о несущественности материала («содержания») в произведении: «противопоставление мира миру или кошки камню равны между собой» (Шкловский). Как известно, в поздних работах школы уже наметилось преодоление этого подхода, наиболее отчетливо проявившееся у позднего Тынянова (соотношение социального и литературного рядов, понятие функции). В соответствии с теорией автоматизации-деавтоматизации строилась концепция развития литературы. В понимании формалистов она-не традиционная преемственность, а прежде всего борьба, движущая сила которой - внутренне присущее искусству требование постоянной новизны. На первом этапе литературной эволюции на смену стертому, старому принципу приходит новый, потом он распространяется, затем автоматизируется, и движение повторяется на новом витке (Тынянов). Эволюция протекает не в виде «планомерного» развития, а движется взрывами, скачками - или путем выдвижения «младшей линии», или путем закрепления случайно возникших отклонений от современной художественной нормы (концепция возникла не без влияния биологии с ее методом проб и ошибок и закрепления случайных мутаций). Позднее Тынянов («О литературной эволюции», 1927) осложнил эту концепцию идеей системности: любая новация, «выпадение» происходит только в контексте системы всей литературы, т.е. прежде всего системы литературных жанров.
Претендуя на универсальность, теория формальной школы, основанная на материале литературы новейшего времени, однако, неприложима к фольклору и средневековому искусству, аналогично тому как некоторые общие построения Веселовского, базирующиеся, напротив, на «безличном» материале архаических периодов искусства, не оправдываются в новейшей литературе. Формальная школа существовала в обстановке непрерывной полемики; активно спорили с нею и занимавшие в то же время близкие по ряду вопросов позиции В.В.Виноградов, Б.В.Томашевский и В.М.Жирмунский - главным образом по вопросам литературной эволюции. С критикой школы с философских и общеэстетических позиций выступал М.М.Бахтин. В центре собственной концепции Бахтина, его «эстетики словесного творчества» лежит идея диалога, понимаемого в очень широком, философски универсальном смысле (см. Полифония; в соответствии с общим оценочным характером монологического и диалогического типов миропостижения - которые в сознании Бахтина иерархичны - последний признается им высшим). С ней связаны все прочие темы его научного творчества: теория романа, слово в разных литературных и речевых жанрах, теория хронотопа, карнавализации. Особую позицию занимали Г. А.Гуковский, а также А.П.Скафтымов, еще в 1920-е ставивший вопрос о раздельности генетического (исторического) и синхронно-целостного подхода Концепцию, оказавшую большое влияние на современную фольклористику, создал В Л.Пропп (подход к фольклорному тексту как к набору определенных и исчислимых функций сказочного героя).
Свое направление в поэтике, названное им впоследствии наукой о языке художественной литературы, создал Виноградов. Ориентируясь на отечественную и европейскую лингвистику (не только на Ф.де Соссюра, но и на Фосслера, Шпитцера), он, однако, с самого начала подчеркивал различие задач и категорий лингвистики и поэтики (см. ). При четком различении синхронических и диахронических подходов для него характерна их взаимокорректировка и взаимопродолженность. Требование историзма (главная линия критики Виноградовым формальной школы), а также возможно более полного учета поэтических явлений (в том числе критических и литературных откликов современников) становится основным в теории и собственной исследовательской практике Виноградова. По Виноградову, «язык литературных произведений» шире понятия «поэтическая речь» и включает ее в себя. Центральной категорией, в которой скрещиваются семантические, эмоциональные и культурно-идеологические интенции художественного текста, Виноградов считал образ автора.
С трудами русских ученых 1920-х связано создание в поэтике теории сказа и наррации вообще в работах Б.М.Эйхенбаума, Виноградова, Бахтина. Для развития поэтики последних лет большое значение имеют работы Д.С.Лихачева, посвященные поэтике древнерусской литературы, и Ю.М.Лотмана, использующего структурно-семиотические методы анализа.
Слово поэтика произошло от греческого poietike techne, что в переводе означает - творческое искусство.
Новое огромное историческое событие, необходимость изображения проверили и развили возможности поэтики Твардовского предыдущих периодов. В частности, подтвердились возможности сочетания сюжетности лирического стихотворения и его психологического богатства; прозаизации и высокого героического пафоса, краткости и обстоятельности «бесценных подробностей». Основные отличия от поэтики предыдущего периода определились скачкообразным расширением «площадки действительности» и усилением ее конфликтности, напряженности всех ситуаций, судеб и концентрации всего этого вокруг основной темы - конфликта, темы и пафоса битвы за жизнь на земле человека с нелюдьми. Отсюда и увеличение разнообразия всех художественных средств и вместе с тем еще большая сосредоточенность в стержневом направлении.
Отсюда соответственно еще более смелое совмещение и одном авторском высказывании, иногда даже отдельной строфе, строчке очень разных и даже контрастных фактов, переживаний, лексических пластов, интонационных движений, но попрежнему в определенных рамках ясной общей направленности, без игры отстранениями, без гротеска, хотя с еще более широким применением условных и символических приемов, еще более смелым сочетанием конкретности и обобщенности. Небывалая резкость переходов, совмещений далекого и близкого, большого и малого, событийности и психологического анализа. Поэт движется в главной стремнине потока, жизни, события, в самой густой его гуще; и ведет при этом на ходу, в спешке, но вместе с тем с дотошной внимательностью, дневники эпохи и самого себя, записную книжку. И непосредственность дневниковой записи перерастает в грандиозное обобщение, вплоть до огромных исторических символов. И, таким образом, рождается новая символическая конкретность стиха и прозы.
Одной из внешних примет расширения «площадки действительности» и пространства поэзии явилось увеличение жанрового разнообразия. «Я писал очерки, стихи, фельетоны, лозунги, листовки, песни, статьи, заметки - все». К этому списку, естественно, добавились обе поэмы. Контрастно увеличилась роль и наиболее крупных повествовательных форм, к которым, кроме поэм, нужно отнести и ряд больших повествовательных стихотворений размером от более ста до почти трехсот строк, - и самых кратких стихотворений, по 6-8 строчек, как бы фрагментарных, отрывочных записей. Сохранились все жанры работы Твардовского предыдущих периодов и появились новые. Например, своеобразные очерки-корреспонденции в стихах, иногда непосредственно выраставшие из газетной заметки или прозаического очерка или параллельные с ними - главным образом описания отдельных героических поступков, подвигов конкретных героев войны. Ряд стихов с преобладанием ораторской интонации, в наибольшей мере перекликавшихся с традиционным жанром «оды»; эти военные «оды» включали в себя и опыт песенных, разговорных жанров. Много стихов-«посланий» и «писем». Есть стихи, совмещавшие в себе признаки «оды», «послания» и резко выраженные песенные элементы - таково сильное стихотворение «К партизанам Смоленщины» - лучший образец ораторской, хотя с элементами разговорной и напевной интонаций, лирики Твардовского. Часто «ода» сочеталась и с признаками «медитативной элегии» («Возмездие»). И развился далее жанр «стихов из записной книжки».
С точки зрения степени прямой активности авторского «я», по-прежнему занимают большое место повествовательно-сюжетные стихи, но гораздо большее развитие, чем в предыдущих периодах, получают смешанные лирико-повествовательные и повествовательно-лирические (с элементами также драматизации). «Лирика другого человека» представлена меньшим количеством специально ей посвященных стихотворений, но широко развита как лирические проявления персонажей поэм и стихотворений. Среди собственно повествовательно-сюжетных стихов теперь выделяется жанр, который сам поэт обозначил термином «баллада». Это, в сущности, аналог рассказов в стихах 30-х годов сходной или несколько большей размерности (например, «Баллада об отречении»- 152 строки, «Баллада о Москве» - 192 строки, «Баллада о товарище» - 232 строки), но с более драматическим, подчас патетическим и трагическим содержанием. Кроме того, есть стихотворения, так и обозначенные, как рассказ в стихах, например, «Рассказ старика», «Рассказ танкиста». Такие повествовательные стихи, иногда имеющие характер военной корреспонденции-очерка о том или ином событии, подвиге, происшествии, в сущности мало отличаются от «баллад» Твардовского этого времени, но имеют элементы сказовости или еще более насыщены бытовыми подробностями. А среди стихов с наиболее активным проявлением лиризма также возникает новый жанр - короткие размышления в стихах, почти афористические, например, известное шестистрочное стихотворение «Война, жесточе нету слова» (1944), - жанр, тесно связанный с жанром «стихов из записной книжки».
Все авторы работ о Твардовском подчеркивают усиление активности авторского «я», лирического начала в творчестве поэтов военного времени - и Твардовского в том числе. С этим можно согласиться, но со сделанной выше оговоркой о том, что вместе с тем усилилось и эпическое начало, а усиление лирической активности у Твардовского не означало, что она только теперь у него возникла. Более того. В самом прямом авторском высказывании преобладает высказывание не прямо о себе, а о себе в связи с чем-то или кем-то другим. Все биографическое и автобиографическое в стихах и прозе, с одной стороны, более непосредственно проявляется, а с другой стороны, - и это несколько парадоксально - даже больше отодвигается, ибо «дневниковость» подчинена колоссальному дневнику коллективного участника войны.
В поэмах прямое высказывание автора выходит на авансцену, но роль своей личности автор везде ограничивает положением комментатора, свидетеля и спутника. Только в прозе этого периода автор выступает как участник описываемого события, но не как действующее лицо, в отличие, например, от прозы Симонова.
Основное отличие авторского «я» этого периода от «я» предыдущих этапов пути Твардовского заключается в самом расширении субъективности, кругозора личного начала, его многоголосия, в появлении новых тематических мотивов, переживаний, непосредственно связанных с войной и с усилением чувства ответственности личности перед лицом врага. В связи с этим несколько меняется и структура лирического высказывания. Оно теперь обращено к более конкретному собеседнику или слушателю; часто «я» непосредственно беседует со своими персонажами, иногда даже обращается к конкретным адресатам. Появляется в числе этих собеседников и сам автор, возникает разговор с самим собой, хотя он предпочитает говорить о себе со стороны. Вообще в каждом стихотворении и в обеих поэмах явно или скрыто происходит некий диалог - «я» и «ты», или «я» и «вы» (эти «вы» часто имеют более конкретные определения - например, «друзья» и т.д.), иногда «мы» и «вы», «мы» и «ты». И этот «ты» часто представляет собой персонаж - индивидуальный или коллективный,- связанный с авторским «я» и некой обратной связью. Это - соотношение, которое было редким в стихах Твардовского предыдущих периодов, теперь становится самым обычным. Товарищество становится принципом изображения. И отсюда в самой лексике во много раз учащается употребление личных и притяжательных местоимений, по сравнению со всем предыдущим творчеством, хотя в указанных рамках, с указанной объективностью самой субъективности.
С этим многообразием и единством разных «я», «ты», «мы», «вы», «они» связано дальнейшее развитие интонационного многоголосия. Как и раньше, в стихах почти всех жанров преобладает естественная разговорная речь, даже в ораторских, одических. Но в этом разговоре резко усилились непосредственный пафос обращения, страстного высказывания, любви и гнева, подчас настоящей ораторской эмфазы, подъема. Довольно часто эта эмфаза переходит в простую риторику. Но в лучших стихах - и во всем «Василии Теркине» - ораторский пафос и страстное высказывание вырастают из непринужденного, без всякой внешней приподнятости, разговора о самом важном, волнующем с живыми собеседниками, на равных. И в этой разговорности обычно сохраняются элементы напевности, продолжается та слитная напевно-разговорная интонация, которую с таким блеском и глубиной разработал Твардовский в стихах предыдущего периода и в «Стране Муравии». Появляются и стихи с новой предельной разговорностью, без всякой напевности, с некой, как бы сбивчивой затрудненной речью, но и в этих стихах не возвращается ультрапрозаизация; сохраняется определенное мелодическое начало подлинно поэтического разговора.
Творчество Анны Андреевны Ахматовой - не просто высший образец "женской" поэзии ("Я научила женщин говорить..." - писала она в 1958 г.). Оно являет собой исключительный, ставший возможным только в XX в. синтез женственности и мужественности, тонкого чувства и глубокой мысли, эмоциональной выразительности и редкой для лирики изобразительности (наглядности, представимости образов).
Будучи с 1910 по 1918 г. женой Н.С. Гумилева, Ахматова вступила в поэзию как представительница основанного им направления акмеизма, противопоставлявшего себя символизму с его мистикой, попытками интуитивно постичь непознаваемое, расплывчатостью образов, музыкальностью стиха. Акмеизм был весьма неоднороден (вторая крупнейшая фигура в нем - О.Э. Мандельштам) и просуществовал как таковой недолго, с конца 1912 г. примерно до конца 10-х гг. Но Ахматова никогда от него не отрекалась, хотя ее"развивавшиеся творческие принципы были разнообразнее и сложнее. Первые книги стихов, "Вечер" (1912) и особенно "Четки" (1914), принесли ей славу. В них и последней дореволюционной книге "Белая стая" (1917) определилась поэтическая манера Ахматовой: сочетание недосказанности, не имеющей ничего общего с символистской туманностью, и четкой представимости рисуемых картин, в частности поз, жестов (начальное четверостишие "Песни последней встречи" 1911 г. "Так беспомощно грудь холодела, / Но шаги мои были легки. / Я на правую руку надела / Перчатку с левой руки" в массовом сознании стало как бы визитной карточкой Ахматовой), выраженность внутреннего мира через внешний (не"редко по контрасту), напоминающая о психологической прозе, пунктирная сюжетность, наличие персонажей и их кратких диалогов, как в маленьких сценках (критика писала о лирических "новеллах" Ахматовой и даже о
"романе-лирике"), преимущественное внимание не к устойчивым состояниям, а к изменениям, к едва наметившемуся, к оттенкам при сильнейшем эмоциональном напряжении, стремление к разговорности речи без ее подчеркнутой прозаизации, отказ от напевности стиха (хотя в позднем творчестве появится и цикл "Песенки"), внешняя отрывочность, например, начало стихотворения с союза, при его малом объеме, многоликость лирического "я" (у ранней Ахматовой несколько героинь разного социального статуса - от светской дамы до крестьянки) при сохранении признаков автобиографизма. Стихи Ахматовой внешне близки классическим, их новаторство не демонстративно, выражается в комплексе признаков. Поэту - слово "поэтесса" Ахматова не признавала - всегда нужен адресат, некое "ты", конкретное или обобщенное. Реальные люди в ее образах зачастую неузнаваемы, несколько человек могут вызвать появление одного лирического персонажа. Ранняя лирика Ахматовой - преимущественно любовная, ее интимность (формы дневника, письма, признания) в значительной степени фиктивна, в лирике, говорила Ахматова, "себя не выдашь". Свое, сугубо личное творчески преображалось в понятное многим, многими переживаемое. Такая позиция позволила тончайшему лирику стать впоследствии выразителем судеб поколения, народа, страны, эпохи.
Размышления об этом вызвала уже Первая мировая война, что сказалось в стихах "Белой стаи". В этой книге резко усилилась религиозность Ахматовой, всегда важная для нее, хотя не во всем ортодоксально православная. Мотив памяти приобрел новый, во многом надличностный характер. Но любовные стихи связывают "Белую стаю" со сборником 1921 г. "Подорожник" (от названия "Лихолетье" отговорили друзья), на две трети состоящим из дореволюционных стихов. Страшный для Ахматовой 1921 г., год известия о самоубийстве любимого брата, год смерти А.А. Блока и расстрела Н.С. Гумилева, обвиненного в участии в белогвардейском заговоре, и 1922 г. отмечены творческим подъемом вопреки тяжелому настроению, личным и бытовым неурядицам. 1922 г. датирована книга "Аппо Оогшш МСМХХ1" ("Лета Господня 1921"). В 1923г. в Берлине вышло второе, расширенное издание "Аппо Оопим", где гражданская позиция поэта, не принявшего новых властей и порядков, была заявлена особенно твердо уже в первом стихотворении "Согражданам", вырезанном цензурой почти из всех поступивших в СССР экземпляров книги. Ахматова в ней оплакивала безвременно ушедших, погубленных, с тревогой смотрела в будущее и принимала на себя крест - обязанность стойко перенести любые тяготы вместе с родиной, оставшись верной себе, национальным традициям, высоким принципам.
После 1923 г. Ахматова почти не печаталась до 1940 г., когда с ее стихов был снят запрет по прихоти Сталина. Но сборник "Из шести книг" (1940), в том числе из отдельно не выходившего "Тростника" (цикл "Ива"), был именно сборником по преимуществу старых стихов (в 1965 г. в состав самого большого прижизненного сборника "Бег времени" войдет тщательно просеянная в издательстве "Седьмая книга", также отдельно не печатавшаяся). В пятой "Северной элегии" (1945) Ахматова признавалась: "И сколько я стихов не написала, / И тайный хор их бродит вкруг меня..." Многие опасные для автора стихи хранились лишь в памяти, из них впоследствии вспомнились отрывки. "Реквием", созданный в основном во второй половине 30-х гг., Ахматова решилась записать только в 1962 г., а напечатан он был в СССР еще через четверть века (1987). Примерно половина ныне опубликованных ахматовских стихов относится к 1909-1922 гг., другая половина создавалась в течение более чем сорока лет. Некоторые годы оказались совершенно бесплодными. Но впечатление исчезновения Ахматовой из поэзии было обманчиво. Главное - она и в самые тяжелые времена создавала произведения высочайшего уровня в противоположность многим советским поэтам и прозаикам, чей дар постепенно угасал.
Патриотические стихи 1941-1945 гг. ("Клятва", "Мужество", "Победителям", стихотворения, позже составившие цикл "Победа", и др.) укрепили положение Ахматовой в литературе, но в 1946 г. она вместе с М.М. Зощенко стала жертвой постановления ЦК ВКП(б) «О журналах "Звезда" и "Ленинград"», обвинившего ее поэзию в безыдейности, салонности, отсутствии воспитательного значения, причем в самой грубой форме. Критика на протяжении ряда"лет занимается ее поношением. Поэт выносит травлю с достоинством. В 1958 и 1961 гг. выходят небольшие сборники, в 1965-м - итоговый "Бег времени". Творчество Ахматовой на исходе ее жизни получает международное признание.
Поздние стихи, собранные автором в несколько циклов, тематически разнообразны: афористическая "Вереница четверостиший", философско-автобиографические "Северные элегии", "Венок мертвым" (преимущественно собратьям по перу, нередко также с тяжелой судьбой), стихи о репрессиях, "Античная страничка", "Тайны ремесла", стихи о Царском Селе, интимная лирика, напоминающая прежнюю любовную, но проведенная через поэтическую память, и т.д. Адресат поздней Ахматовой - обычно некое обобщенное "ты", объединяющее живых и мертвых, дорогих автору людей. Зато лирическое "я" теперь не многоликая героиня ранних книг, это образ более автобиографи-
ческий и автопсихологический. Часто поэт выступает от лица выстраданной истины. Ближе к классическим стали формы стиха, торжественнее интонация. Нет прежних "сценок", прежней "вещности" (тщательно отобранной предметной детализации), больше "книжности", сложных переливов мысли и чувства.
Крупнейшим и самым сложным произведением Ахматовой, над которым она работала с 1940 по 1965 г., создав четыре основных редакции, стала "Поэма без героя". В ней подчеркивается единство истории, единство культуры, бессмертие человека, содержатся зашифрованные воспоминания о последнем годе перед мировой катастрофой - 1913-м - и Первая мировая война выступает как предвестие Второй, а также революции, репрессий, вообще всех катаклизмов эпохи ("Приближался не календарный - / Настоящий Двадцатый Век"). Вместе с тем это произведение глубоко личностное, насыщенное намеками и ассоциациями, явными и скрытыми цитатами из литературы XIX и XX вв.
21. Творчество Мандельштама
Имя Мандельштама становится известно в 1910 году, когда в журнале "Аполлон" публикуются его первые стихи. Причем Мандельштам сразу же входит в число наиболее популярных поэтов. Вместе с Николаем Гумилевым и Анной Ахматовой он стал основателем нового направления - акмеизма.
В творчестве Мандельштама можно условно выделить три периода. Первый приходится на 1908- 1916 годы. Уже в ранних стихах поэта чувствуется интеллектуальная зрелость и тонкое описание юношеской психологии.
О. Мандельштам сравнивает жизнь с омутом, злым и вязким. Из многих его ранних стихотворений нам передается смутная тоска, "невыразимая печаль". Но все-таки главное в них - поиск цельности, попытка постичь окружающий мир, "из глубокой печали восстать".
Уже в раннем творчестве О. Мандельштама начинает обрисовываться главная тема его поэзии - тема общечеловеческой, не знающей границ культуры. В стихах Мандельштама мы не найдем прямого изображения важных общественных событий того времени. Каждый этап развития человечества оценивается поэтом как новая степень развития культуры. Это хорошо видно в его цикле "Петербургские строфы". Городской пейзаж Мандельштама насыщен историческим содержанием. Поэт создает также стихи о музыке и музыкантах, о творчестве. Обращение к этим темам позволяет поэту высказать идею единства мировой культуры.
На 1917-1928 годы приходится второй этап творчества О. Мандельштама. Исторические потрясения этого времени не могли не найти отклика в душе поэта. Стихотворение "Век" передает нам ощущение Мандельштамом трагизма истории.
Поэт считает, что в революции есть сила, способная принести ожидаемое, но для этого "снова в жертву, как ягненка, темя жизни принесли". В стихах Мандельштама появляются образы голодающего, "умирающего Петрополя", ночи, "темноты", человека, который "изучил науку расставаний". Свою неуверенность в успехе политических преобразований того времени поэт высказывает в стихотворении "Проспавши, братья, сумерки свободы!.."
Циклом стихов об Армении, написанным осенью 1930 года, открывается третий этап творческого пути О. Мандельштама. Эти стихотворения проникнуты чувством любви и братства разных народов, поэт говорит о том, что общечеловеческое выше национального. Как истинный художник, О. Мандельштам не мог закрыть глаза на происходящее вокруг него. И после трехлетнего перерыва (1926-1929) он возобновляет свой разговор с веком. Трагизм судьбы народа и страны вновь становится центральным в его творчестве. В стихах этого периода мы видим и смятение поэта, и его боль, и отчаяние от видений "грядущих казней". Иногда Мандельштаму становится "страшно, как во сне"-. Такие стихи, как "Старый Крым", "Квартира тиха как бумага", "За гремучую доблесть" и резкое стихотворение против "кремлевского горца" (Сталина) фактически стали приговором поэту. О. Мандельштам не мог молчать тогда, когда большинство молчало. В результате мы имеем потрясающе глубокий социально-психологический портрет Сталина.
Реакцией власти на эти стихотворения стал арест О. Мандельштама и его последующая ссылка. После отмены ссылки поэту разрешили поселиться где он захочет, кроме двенадцати крупнейших городов страны. Он едет в Воронеж. Там Мандельштам очень остро ощущает свою оторванность от привычного круга общения. Мы слышим его отчаяние: "Читателя! Советчика! Врага! На лестнице колючей разговора б!"
Фактически оказавшись отрезанным от внешнего мира, поэт начинает терять чувство реальности. В его творчестве появляются мотивы вины перед народом, перед Сталиным. Мандельштам пишет, что он входит в жизнь, "как в колхоз идет единоличник". Кажется, что он отказался от всего, чем дорожил ранее. В его душе произошел надлом. И в этом был самый большой ужас наказания поэта "полулюдьми", фактически лишившими его голоса.
Осип Эмильевич Мандельштам - создатель и виднейший поэт литературного течения - акмеизма, Друг Н. Гумилева и А. Ахматовой. Но несмотря на это, поэзия О. Мандельштама недостаточно хорошо известна широкому кругу читателей, а между тем в творчестве этого поэта как нельзя лучше отражено “дыхание времени”. Его стихи прямолинейны и правдивы, в них нет места цинизму, ханжеству, лести. Именно за нежелание уподобляться поэтам-конъюнктурщикам, воспевающим и прославляющим Советскую власть и лично товарища Сталина, он был обречен на непризнание и изгнание, на тяготы и лишения. Его жизнь трагична, а впрочем, нельзя назвать счастливой судьбу многих поэтов “серебряного века”.
Воспоминания Мандельштама о детских и юношеских годах сдержанны и строги, он избегал раскрывать себя, комментировать собственные поступки и стихи. Он был рано созревшим, точнее - прозревшим поэтом, и его поэтическую манеру отличают серьезность и строгость.
Первый сборник поэта вышел в 1913 г., его название “Камень”. Название - вполне в духе акмеизма. У Мандельштама камень являет собой как бы первичный строительный материал духовной культуры. В стихотворениях этой поры чувствовалось мастерство молодого поэта, умение владеть поэтическим словом, использовать широкие музыкальные возможности русского стиха. Первая половина 20-х гг. ознаменовалась для поэта подъемом творческой мысли и приливом вдохновения, однако эмоциональный фон этого подъема окрашен в темные тона и соединяется с чувством обреченности.
В стихах 20-х и 30-х гг. особое значение приобретает социальное начало, открытая авторская позиция. В 1929 г. он обращается к прозе, пишет книгу, получившую название “Четвертая проза”. Она невелика по объему, но в ней сполна выплеснулась та боль и презрение поэта к писателям-конъюнктурщикам (“членам МАССОЛИТа”), которые долгие годы разрывали душу Мандельштама. “Четвертая проза” дает представление о характере самого поэта - импульсивном, взрывном, неуживчивом Мандельштам очень легко наживал себе врагов, потому как всегда говорил, что думал, и своих суждений и оценок не таил. Практически все послереволюционные годы Мандельштам жил в тяжелейших условиях, а в 30-е гг. - в ожидании неминуемой смерти. Друзей и почитателей его таланта было немного, но они были. Осознание трагизма своей судьбы, видимо, укрепляло поэта, давало ему силы, придавало трагический, величественный пафос его новым творениям. Этот пафос заключается в противостоянии свободной поэтической личности своему веку - “веку-зверю”. Поэт не ощущал себя перед ним ничтожной, жалкой жертвой, он осознает себя равным.
Искренность Мандельштама граничила с самоубийством. В ноябре 1933 г. он написал резко сатирическое стихотворение о Сталине.
По свидетельству Е. Евтушенко: “Мандельштам был первым русским поэтом, написавшим стихи против начинавшегося в 30-е годы культа личности Сталина, за что и поплатился”. Как ни удивительно, приговор Мандельштаму был вынесен довольно мягкий. Люди в то время погибали и за гораздо меньшие “провинности”. Резолюция Сталина всего лишь гласила: “Изолировать, но сохранить”, - и Осип Мандельштам был отправлен в ссылку в далекий северный поселок Чердынь. После ссылки ему запретили проживать в двенадцати крупных городах России, Мандельштам был переведен в менее суровые условия - в Воронеж, где поэт влачил нищенское существование. Поэт попал в клетку, но он не был сломлен, он не был лишен внутренней свободы, которая поднимала его надо всем даже в заточении.
Стихи воронежского цикла долгое время оставались неопубликованными. Они не были, что называется, политическими, но даже “нейтральные” стихи воспринимались как вызов. Эти стихи проникнуты ощущением близкой гибели, иногда они звучат как заклинания, увы, безуспешные. После воронежской ссылки поэт еще год провел в окрестностях Москвы, пытаясь добиться разрешения жить в столице. Редакторы литературных журналов боялись даже разговаривать с ним. Он нищенствовал. Помогали друзья и знакомые.
В мае 1938г. Мандельштама снова арестовывают, приговаривают к пяти годам каторжных работ и отправляют на Дальний Восток, откуда он уже не вернется. Смерть настигла поэта в одном из пересыльных лагерей под Владивостоком 2 декабря 1938 г. В одном из последних стихотворений поэта есть такие строчки: уходят вдаль людских голов бугры,/Я уменьшаюсь там - меня уж не заметят,/Но в книгах ласковых и в играх детворы
24. Поэзия М.Цветаевой. Основные мотивы лирики. Анализ цикла стихов («Стихи о
Москве», «Стихи к Блоку», «Ахматовой» и др.)
Жизнь посылает некоторым поэтам такую судьбу, которая с первых же шагов сознательного бытия ставит их в самые благоприятные условия для развития природного дара. Такой яркой и трагической была судьба Марины Цветаевой, крупного и значительного поэта первой половины нашего века. Все в ее личности и в ее поэзии (для нее это нерасторжимое единство) резко выходило за рамки традиционных представлений, господствующих литературных вкусов. В этом была и сила, и самобытность ее поэтического слова. Со страстной убежденностью она утверждала провозглашенный ею еще в ранней юности жизненный принцип: быть только самой собой, ни в чем не зависеть ни от времени, ни от среды, и именно этот принцип обернулся в дальнейшем неразрешимыми противоречиями в трагической личной судьбе.
Моя любимая поэтесса М. Цветаева родилась в Москве 26 сентября 1892 года:
Красною кистью Рябина зажглась. Падали листья. Я родилась. Рябина стала символом судьбы, тоже полыхнувшей алым цветом ненадолго и горькой. Через всю жизнь пронесла М. Цветаева свою любовь к Москве, отчему дому. Она вобрала в себя мятежную натуру матери. Недаром самые проникновенные строки в ее прозе -- о Пугачеве, а в стихах -- о Родине. Ее поэзия вошла в культурный обиход, сделалась неотъемлемой частью нашей духовной жизни. Сколько цветаевских строчек, недавно еще неведомых и, казалось бы, навсегда угасших, мгновенно стали крылатыми!
Стихи были для М. Цветаевой почти единственным средством самовыражения. Она поверяла им все:
По тебе тоскует наша зала, -- Ты в тени ее видал едва -- По тебе тоскуют те слова, Что в тени тебе я не сказала. Слава накрыла Цветаеву подобно шквалу. Если Анну Ахматову сравнивали с Сапфо, то Цветаева была Никой Самофракийской. Но вместе с тем, с первых же ее шагов в литературе началась и трагедия М. Цветаевой. Трагедия одиночества и непризнанности. Уже в 1912 году выходит ее сборник стихов "Волшебный фонарь". Характерно обращение к читателю, которым открывался этот сборник:
Милый читатель! Смеясь как ребенок,
Весело встреть мой волшебный фонарь,
Искренний смех твой, да будет он звонок
И безотчетен, как встарь.
В "Волшебном фонаре" Марины Цветаевой мы видим зарисовки семейного быта, очерки милых лиц мамы, сестры, знакомых, есть пейзажи Москвы и Тарусы:
В небе -- вечер, в небе -- тучки, В зимнем сумраке бульвар. Наша девочка устала,
Улыбаться перестала. Держат маленькие ручки синий шар.
В этой книге впервые появилась у Марины Цветаевой тема любви. В 1913--1915 годы Цветаева создает свои "Юношеские стихи", которые никогда не издавались. Сейчас большинство произведений напечатано, но стихи рассыпаны по различным сборникам. Необходимо сказать, что "Юношеские стихи" полны жизнелюбия и крепкого нравственного здоровья. В них много солнца, воздуха, моря и юного счастья.
Что касается революции 1917 года, то ее понимание было сложным, противоречивым. Кровь, обильно проливаемая в гражданской войне, отторгала, отталкивала М. Цветаеву от революции:
Белый был -- красным стал:
Кровь обагрила.
Красным был -- белый стал:
Смерть победила.
Это был плач, крик души поэтессы. В 1922 году вышла ее первая книга "Версты", состоящая из стихов, написанных в 1916 году. В "Верстах" воспета любовь к городу на Неве, в них много пространства, простора, дорог, ветра, быстро бегущих туч, солнца, лунных ночей.
В том же году Марина переезжает в Берлин, где она за два с половиной месяца написала около тридцати стихотворений. В ноябре 1925 года М. Цветаева уже в Париже, где прожила 14 лет. Во Франции она пишет свою "Поэму Лестницы" -- одно из самых острых, антибуржуазных произведений. Можно с уверенностью сказать, что "Поэма Лестницы" -- вершина эпического творчества поэтессы в парижский период. В 1939 году Цветаева возвращается в Россию, так как она хорошо знала, что найдет только здесь истинных почитателей ее огромного таланта. Но на родине ее ожидали нищета и непечатание, арестованы ее дочь Ариадна и муж Сергей Эфрон, которых она нежно любила.
Одним из последних произведений М. И. Цветаевой явилось стихотворение "Не умрешь, народ", которое достойно завершило ее творческий путь. Оно звучит как проклятие фашизму, прославляет бессмертие народов, борющихся за свою независимость.
Поэзия Марины Цветаевой вошла, ворвалась в наши дни. Наконец-то обрела она читателя -- огромного, как океан: народного читателя, какого при жизни ей так не хватало. Обрела навсегда.
В истории отечественной поэзии Марина Цветаева всегда будет занимать достойное место. И в то же время свое -- особое место. Подлинным новаторством поэтической речи явилось естественное воплощение в слове мятущегося в вечном поиске истины беспокойного духа этой зеленоглазой гордячки, "чернорабочей и белоручки".
Стихи М.И.Цветаевой о Москве. Чтение наизусть одного из них.
Марина Ивановна Цветаева родилась почти в самом центре Москвы. Дом в Трехпрудном переулке она любила словно родное существо. Московская тема появляется уже в ранних стихах поэтессы. Москва в ее первых сборниках - воплощение гармонии. В стихотворении «Домики старой Москвы» город предстает как символ минувшего. В нем - слова и понятия, передающие аромат старины: «вековые ворота», «деревянный забор», «потолки расписные», «домики с знаком породы». Цветаева ощущала себя прежде всего жителем Москвы:
- Москва! - какой огромный Странноприимный дом! Всяк на Руси бездомный, Мы все к тебе придем...
В ее лирике звучит своеобразие московской речи, включающей в себя ладный московский говор, диалектизмы приезжих мужиков, странников, богомольцев, юродивых, мастеровых.
В 1916 году Цветаева написала цикл «Стихи о Москве». Этот цикл можно назвать величальной песней Москве. Первое стихотворение «Облака - вокруг...» дневное, светлое, обращенное к дочери. Откуда-то с высоты - с Воробьевых гор или с Кремлевского холма - она показывает маленькой Але Москву и завещает этот «дивный» и «мирный град» дочери и ее будущим детям:
Облака - вокруг,
Купола - вокруг,
Надо всей Москвой -
Сколько хватит рук! -
Возношу тебя, бремя лучшее,
Деревцо мое
Невесомое!
Будет твой черед:
Тоже - дочери
Передашь Москву
С нежной горечью...
А следом Марина Цветаева дарит Москву поэту Осипу Мандельштаму:
Из рук моих - нерукотворный град
Прими, мой странный, мой прекрасный брат...
Вместе с ним она как бы обходит весь город: через Иверскую часовню на Красную площадь и через Спасские ворота - в Кремль, на свой любимый «пятисоборный несравненный круг» - Соборную площадь.
Третье стихотворение этого цикла - ночное. Трудно сказать, с каким реальным событием оно связано. Московские улицы в этом стихотворении другие, страшные:
Мимо ночных башен Площади нас мчат. Ох, как в ночи страшен Рев молодых солдат!
Поэт дорожит Москвой не только как родным городом, но и как святыней Отечества, столицей России.
23. Стилевые и жанровые особенности русской прозе начала 20 века. (Бунин, куприн, андреев)
И. А. Бунин.
Иван Алексеевич Бунин - поэт и прозаик, классик русской литературы, замечательный мастер изобразительного слова.
Бунин родился в 1870 году в Воронеже. Детство его прошло в имении отца Бутырки в Орловской губернии.
Первое стихотворение Бунин написал в возрасте восьми лет. В шестнадцать лет появилась его первая публикация в печати, а в 18 он начинает добывать хлеб литературным трудом.
В 20 становится автором первой, вышедшей в Орле, книги. Стихи сборника во многом были, правда, еще несовершенны, признания и известности молодому поэту не принесли. Но здесь обозначилась одна вызывающая к себе интерес тема - тема природы. Он становится признанным поэтом, достигнув мастерства прежде всего в пейзажной лирике. Одновременно со стихами Бунин писал и рассказы. Деревенская тема становится обычной в его ранней прозе. В его прозе - реалистические образы, типы людей, взятых из жизни. Популярность прозы Бунина началась с 1900 года, после публикации рассказа "Антоновские яблоки", созданного на самом близком писателю материале деревенской жизни. Читатель как бы всеми чувствами воспринимает раннюю осень, время сбора антоновских яблок. Запах антоновки и другие привычные автору с детства признаки сельской жизни означают торжество жизни, радости, красоты. Исчезновение этого запаха из дорогих его сердцу дворянских поместий символизирует неотвратимое их разорение, угасание. Яркое чувствование и описание природы перемежается воспоминаниями о близких людях, их повседневных заботах, быте на фоне прекрасных пейзажей. Писатель с сожалением расстается с прошлым, овеянным в его представлении романтической дымкой, поэзией дворянских гнезд, где царил запах антоновских яблок, запах России.
Самым значительным произведением дооктябрьского периода творчества Бунина стала повесть "Деревня" (19910 г.). Она отражает жизнь крестьян, судьбу деревенского люда в годы первой русской революции. Повесть была написана во время наибольшей близости Бунина и Горького. Сам автор пояснил, что здесь он стремился нарисовать, "кроме жизни деревни, и картины вообще всей русской жизни".
Повесть потрясла Горького, который услышал в ней "скрытый, заглушенный стон о родной земле, мучительный страх за нее". По его мнению, Бунин заставил "разбитое и расшатанное русское общество серьезно задуматься над строгим вопросом - быть или не быть России".
Предреволюционная проза Бунина пронизана враждебным отношением к капиталистической цивилизации. Это особенно отчетливо выразилось в рассказе «Господин из Сан-Франциско» (1915). Но это повествование не только о частной судьбе - ведь герой не назван по имени. Все в рассказе обращено к трагическим судьбам мира, пораженного эпидемией бездуховности.
Автор сосредоточил внимание на фигуре главного героя, принадлежащего к избранному обществу, «от которого зависят все блага цивилизации: и фасон смокингов, и прочность тронов, и объявление войн, и благосостояние отелей». Свое отношение к этому обществу Бунин передал в тоне едкой иронии, исключающей сочувствие и сострадание. Писатель изобразил «высшее отребье человечества» с его цинизмом, низменностью вкусов и потребностей, призрачное благополучие которого держится на жестокости, богатстве и власти.
Писатель внешне спокойно, с объективностью ученого, воссоздает жизнь еще не старого миллионера в тот момент, когда «господин» решил отдохнуть и развлечься. Здесь и возникает картина полного ничтожества и безликости этого существа, которого автор не случайно лишил даже имени собственного. Американский миллионер утратил, а вернее, погубил в себе, а может, не открыл самое главное, самое ценное, что всегда поэтизировал Бунин, - человеческую ндивидуальность, самобытность, способность радоваться прекрасному и доброму. Не только главный герой, но люди, близкие к нему, лишены индивидуальных примет. Это маски, куклы, механические люди, которые живут в соответствии с нормами своего обезличенного круга.
Авторскую позицию, отношение к изображенному миру богатых проясняют образы другого плана. Это бушующий океан, в котором пышная многоярусная «Атлантида» выглядит игрушкой стихии. Безликим пассажирам противостоит солнечная Италия и ее люди, не утратившие радостного восприятия мира
Если мир, бытие и жизнь людей - лишь обман, который "исчезает, как дым", то что же остается? Есть ли вообще что-то постоянное и абсолютное? Есть, вслед за Ницше считали декаденты, - это красота. Все декадентское искусство, по сути, - взгляд сквозь призму эстетизма: эстетизируется зло, эстетизируется смерть, эстетизируется все... Однако есть области, где красота реализуется наиболее полно. Прежде всего это мир фантазии, мир поэтического вымысла. Более того, не только прекрасное есть то, чего не существует, но и, наоборот: то, что не существует, - прекрасно. Поэт желает лишь того, "чего нет па свете" (3. Н. Гиппиус).
Декаденты абсолютизировали красоту. Некоторым из них была близка мысль Ф. Достоевского о том, что красота спасет мир. Неземная красота позволяет увидеть многообразие и глубину материального мира. Вот как об этом пишет Константин Дмитриевич Бальмонт (1867-1942) в стихотворении "Эдельвейс" (1896):
Я на землю смотрю с голубой высоты, Я люблю эдельвейс - неземные цветы, Что растут далеко от обычных оков, Как застенчивый сон заповедных снегов.
С голубой высоты я на землю смотрю, И безгласной мечтой я с душой говорю, С той незримой Душой, что мерцает во мне В те часы, как иду к неземной вышине.
И, помедлив, уйду с высоты голубой, Не оставив следа на снегах за собой, Но один лишь намек, белоснежный цветок, Мне напомнит, что мир бесконечно широк.
К. Д. Бальмонт создает особый жанр символической пейзажной лирики, где сквозь все детали земного ландшафта проступает неземная символическая красота. Вот его программное стихотворение, открывавшее стихотворный сборник "В безбрежности" (1895):
Я мечтою ловил уходящие тени, Уходящие тени погасшего дня, Я на башню всходил, и дрожали ступени, И дрожали ступени под ногой у меня.
И чем выше я шел, тем ясней рисовались, Тем ясней рисовались очертанья вдали. И какие-то звуки вокруг раздавались, Вкруг меня раздавались от Небес и Земли.
Чем я выше всходил, тем светлее сверкали, Тем светлее сверкали выси дремлющих гор, И сияньем прощальным как будто ласкали, Словно нежно ласкали отуманенный взор.
А внизу подо мною уж ночь наступила, Уже ночь наступила для уснувшей Земли, Для меня же блистало дневное светило, Огневое светило догорало вдали.
Я узнал, как ловить уходящие тени, Уходящие тени потускневшего дня, И все выше я шел, и дрожали ступени, И дрожали ступени под ногой у меня.
Другой важной темой, также связанной с красотой, для декадентов была любовь - земная и страстная, иногда даже порочная (такова в значительной мере любовная лирика В. Я. Брюсова). В любви они видели те же стихии, что и в природе, поэтому любовная лирика родственна пейзажной. Близкая к символизму поэтесса Мирра (Мария
Александровна) Лохвицкая (1869-1905), которую современники называли "русской Сафо", воспевает любовь как стихию, равной которой нет во Вселенной:
Я люблю тебя, как море любит солнечный восход, Как нарцисс, к волне склоненный,
- - блеск и холод сонных вод. Я люблю тебя, как звезды любят месяц золотой, Как поэт - свое созданье, вознесенное мечтой. Я люблю тебя, как пламя - однодневки-мотыльки, От любви изнемогая, изнывая от тоски. Я люблю тебя, как любит звонкий ветер камыши, Я люблю тебя всей волей, всеми струнами души. Я люблю тебя, как любят неразгаданные сны: Больше солнца, больше счастья, больше жизни и весны.
- ("Я люблю тебя, как море любит солнечный восход...", 1899)
Декадентский культ красоты связан также с повышенным вниманием к культуре стиха, в первую очередь к его ритмической и звуковой структуре. Звучание стиха - не просто форма, в которую "заключается" содержание; оно должно быть гармонично, благозвучно и значимо (поскольку все в мире символично, символичной должна быть и форма стиха). Особенно велики заслуги в развитии стихотворной формы у В. Я. Брюсова и К. Д. Бальмонта. Никто в русской поэзии еще не писал таких благозвучных стихов, как Бальмонт (например, приведенное выше стихотворение "Я мечтою ловил уходящие тени..."). Именно развитие мелодичности стиха Бальмонт считал своей основной заслугой. Более того, он и самого себя идентифицировал с материей стиха:
Я - изысканность русской медлительной речи, Предо мною другие поэты - предтечи, Я впервые открыл в этой речи уклоны, Перепевные, гневные, нежные звоны.
("Я - изысканность русской медлительной речи...", 1901)
Культ прекрасного в стихе - частный случай декадентского представления об искусстве как высшем виде человеческой деятельности. Искусство выше не только обыденной практической деятельности, но и выше науки, философии.
"Наука раскрывает законы природы, искусство творит новую природу, писал II. М. Минский и "Старинный спор- (1881). одном из первых программных документов русского модернизма. - Творчество существует только в искусстве, и только одно творчество творит новую природу. Величайшие гении науки, как Ньютон, Кеплер и Дарвин, объяснившие нам законы, но которым движутся миры и развивается жизнь, сами не создали ни одной пылинки. Между тем Рафаэль и Шекспир, не открыв ни одного точного закона природы, создали каждый по новому человечеству. Только художник имеет право, подобно гётевскому Прометею, говорить, обращаясь к Зевсу: "Здесь я сижу и творю людей, как ты.
Любой творческий акт приближает художника к демиургу (богу-творцу). Деятельность художника - это не работа, не труд в обычном смысле слова, а таинство, мистерия, волшебство. Показательно в этом смысле заглавие брошюры К. Д. Бальмонта "Поэзия как волшебство" (1915), в которой он обобщает свой опыт поэта-символиста.
Младшие символисты (в основном это были поэты, считавшие себя учениками В. Соловьева), вступившие в литературу в начале века, стремились противопоставить себя декадентам, которых они причисляли к "черным магам" (так называют колдунов, ведьм и т.п.). Себя они называли "теургами", или "белыми магами", и если старшие символисты связывали свое творчество со служением культу Сатаны, то младшие считали себя пророками, воплощающими божественную волю. Наиболее значительными представителями младших символистов были Л. Л. Блок, Л. Белый и Вячеслав Иванович Иванов (1866-1949). Довольно заметным явлением русского символизма стал и поэт литовского происхождения Юргис Балтрушайтис (1873-1944), писавший стихи и по-литовски.
Младшие символисты не только противопоставляли себя декадентству; в их творчестве действительно было много нового. Как и В. С. Соловьев, они были твердо убеждены в реальном существовании мира божественных идей. Как и Соловьев, они верили, что противоположность идеального и материального миров, божественной гармонии и земного хаоса не абсолютна и не вечна, более того приближается конец старого мира. Себя же они считали предвестниками мира нового. Предчувствие неизбежного наступления нового мира было уже у прямых предшественников младших символистов - так называемых петербургских мистиков, творивших в 1890-е гг. (Д. С. Мережковский, 3. Н. Гиппиус и др.). Однако у "мистиков" это чувство было окрашено в трагические, пессимистичные тона: пророки будущего сами до этого будущего не доживут. В стихотворении Д. С. Мережковского "Дети ночи" (1894) есть такие строки:
Устремляя наши очи На бледнеющий восток, Дети скорби, дети ночи, Ждем, придет ли наш пророк. Мы неведомое чуем, И, с надеждою в сердцах, Умирая, мы тоскуем О несозданных мирах. Мы - над бездною ступени, Дети мрака, солнца ждем: Свет увидим - и, как тени, Мы в лучах его умрем.
У младших символистов эта тема получает иной поворот: они не только предвестники, по и свидетели нового мира, который родится в момент мистического синтеза неба и земли, в момент окончательного сошествия на землю Вечной Женственности. Вот сонет из цикла А. А. Блока "Стихи о Прекрасной Даме":
За городом в полях весною воздух дышит. Иду и трепещу в предвестии огня. Там, знаю, впереди - морскую зыбь колышет Дыханье сумрака - и мучает меня.
Я помню: далеко шумит, шумит столица. Там, в сумерках весны, неугомонный зной. О, скудные сердца! Как безнадежны лица! Не знавшие весны тоскуют над собой.
А здесь, как память лет невинных и великих, Из сумрака зари - неведомые лики Вещают жизни строй и вечности огни...
Забудем дольний шум. Явись ко мне без гнева. Закатная, Таинственная Дева, И завтра и вчера огнем соедини.
("За городом в полях весною воздух дышит...", 1901)
В этом стихотворении находим характерное для Блока противопоставление суетного "дольнего шума" современной столичной жизни и Прекрасной Дамы (которая здесь названа Таинственной Девой). Современный человек целиком погружен в суету мира, он не замечает ничего, кроме самого себя, и "тоскует над собой", в то время как природа уже живет ожиданием прихода Вечной Женственности. Пейзаж таинствен и символичен: сумрак тревожно дышит в ожидании весны, причем весна здесь - не только время года, но и символ рождения нового мира. Через все стихотворение проходит тема огня: это и свет зари, и проступающий сквозь него очистительный огонь вечности. (Огонь был символом чистоты в различных культурах древности, в культуре Нового времени он связан с философией Ф. Ницше.) Лирический герой стихотворения в окружении природы и вместе с ней погружен в ожидание Ее. В последней строке огонь выступает уже не только как разрушительная, но и как созидательная сила: он соединяет время, ибо в будущем мире времени нет ("Времени больше не будет" - такое пророчество содержится в Апокалипсисе, заключительной книге Нового Завета).
Мистическая любовь принимает в ранней лирике Блока личностный облик - Вечная Женственность воплощается в облике реальной женщины, через любовь к которой происходит приобщение к мистической любви.
В поэзии А. Белого довольно близкие переживания воплотились в образе "возлюбленной Вечности". Вот начало его стихотворения "Образ Вечности" (1903):
Образ возлюбленной - Вечности - встретил меня на горах. Сердце в беспечности. Гул, прозвучавший в веках.
В жизни загубленной
образ возлюбленной,
образ возлюбленной - Вечности,
с ясной улыбкой на милых устах.
Символистическая система соответствий, постоянное соотнесение, а иногда и смешение различных планов реальности приводит к тому, что ни одна вещь не воспринимается "просто" - сквозь нее "проступает" что-то другое, символом чего она является. Это сближает символистическое мироощущение с наиболее древними формами искусства, основанными на мифе. Символисты сами понимали эту связь и всячески ее подчеркивали: мифотворчество играет значительную роль как в их искусстве, так и в жизни. Мифологический текст отличается от литературного произведения не столько своим содержанием, сколько отношением к миру. Литературный текст имеет начало и конец, у него есть автор и читатель. То, что он описывает, может быть правдой, но может и содержать различные формы вымысла, причем предполагается, что читатель в принципе отличает правду от вымысла (на сознательном сбивании читателя с толку основываются литературные мистификации, в которых автор пытается выдать вымысел за реальность). Миф же не имеет ни начала, ни конца, он принципиально открыт, и в него могут включаться все новые элементы. Миф не знает разграничения автора и читателя; его не создают и не читают его творят, им живут. Миф разыгрывается в ритуале, и каждый участник ритуала творит миф. Про миф нельзя сказать, правда это или выдумка, ибо миф строится по особой логике, в которой не действует закон противоречия.
Как уже неоднократно упоминалось, для творчества младших символистов были исключительно важны религиозно-философские идеи В. С. Соловьева, однако, в отличие от самого Соловьева, для них эти идеи имели в значительной степени мифологизированный характер, были не философской конструкцией, а способом жизни. Возрождение интереса к мифологии - вообще характерная черта модернистских направлений искусства XX столетия, и в существенной мере именно символизм заложил основные принципы этого нового мифологизма.
Если интерес ic мифологии и мифотворчеству был характерен для всех младших символистов, то конкретные формы, которые принимал и их творчестве, имели у каждого из них важные отличия. Так, В. И. Иванов, глубоко эрудированный историк и филолог, воскрешал в своем творчестве мифологию Античности. Те мифы и легенды, которые заучивались в гимназиях и изучались в университетах, мифы и легенды, которые создавались давно умершими людьми на давно уже мертвых языках, вдруг оказались захватывающе современными, увлекательными и прекрасными. Вот как Иванов описывает менаду (вакханку, участницу мистерии в честь бога Диониса):
Бурно ринулась Менада
Словно лань,
Словно лань, С сердцем, вспугнутым из персей,
Словно лань,
Словно лань, С сердцем, бьющимся, как сокол
Во плену,
Во плену, С сердцем, яростным, как солнце
С сердцем, жертвенным, как солнце Ввечеру, Ввечеру...
("Менада", 1906)
Смерть и возрождение Диониса, торжественно отмечавшиеся в Древней Греции каждый год (Дионис принадлежал к числу умирающих и воскресающих богов), Иванов сумел изобразить как событие не литературного, но жизненного трагизма.
Для Александра Блока важна не филологическая чистота и историческая точность мифа, а его принципиальная открытость. В отличие от Вячеслава Иванова он не стремится возродить в современном человеке психологические переживания человека Античности, для него мифотворчество - вечно продолжающийся процесс, захватывающий современность. Свои мифы были не только в Античности, но и в Средние века, а также и в литературе Нового времени. Мифология находится вне истории, она связана не с временем, а с вечностью, поэтому в мифе широко встречаются анахронизмы (смешения явлений, принадлежащих различным эпохам).
Образ Прекрасной Дамы, первоначально заимствованный у В. С. Соловьева, постепенно обогащается другими сюжетами и ассоциациями. Это и Коломбина, и Кармен, и Офелия и т.д. Иногда эти вторичные образы как бы оттесняют основной образ Прекрасной Дамы на задний план, как, например, в стихотворении из зрелого творчества Блока "Шаги командора". Здесь речь, казалось бы, идет только о Дон Жуане и Донне Анне, но называние Донны Анны "Девой Света" ясно указывает на то, что она же является и Прекрасной Дамой. В этом стихотворении легенда о Дон Жуане, пригласившем на свое свидание с Донной Анной, вдовой убитого им на дуэли Командора, статую самого Командора, вырвана из привычного пространства и времени (средневековая Испания). Действие стихотворения происходит всегда и всюду. Как явный и демонстративный анахронизм в стихотворении вводится автомобиль - "мотор", как тогда говорили. Донна Анна только что умерла и лежит в своей "пышной спальне", по, с другой стороны, она умерла уже давным-давно и свои "неземные сны" видит в могиле. Действие стихотворения длится лишь несколько мгновений, пока раздается бой часов, по мгновения эти длятся вечно: последние два стиха, выделенные Блоком курсивом, утверждают, что свое окончание этот сюжет получает в момент конца света, когда мертвецы встают из своих гробов, -тогда воскресает и попранная Красота Мира.
Если для Иванова корни мифа в прошлом, для Блока - в настоящем, то для Андрея Белого они в будущем. В этом отношении он близок к послесимволистским течениям модернизма, например к футуризму, где миф приобретает черты утопии. Аргонавты у А. Белого отправляются в путешествие не просто за золотым руном, как в древнегреческом мифе, по за солнцем, радостью, раем.
Как и декаденты, младшие символисты безоговорочно приняли революцию 1905-1907 гг. Как и декаденты, они видели в ней в первую очередь стихию (сравнивали ее с бурей, наводнением и т.п.). Как и декаденты, они были захвачены героическим пафосом революционной борьбы. Например, А. Блок создает в это время такие стихотворения, как "Шли на приступ. Прямо в грудь...", "Ангел-хранитель" и др. В. Иванов обращается к современности и даже пишет политические стихи ("Стансы" и пр.).
Однако в восприятии революционной действительности младшими символистами имелись и свои особенности. Во-первых, революция для них была событием не столько политическим, сколько духовным. Для В. И. Иванова и, отчасти, А. Белого она была "революцией духа", и должна была заключаться в полном перерождении духовного мира человека (позднее эту идею подхватят футуристы, в частности В. В. Маяковский). Во-вторых, революция была для них мистерией - актом космической драмы, разыгрываемой участниками революции. Мистерия эта приобретала отчетливые апокалипсические тона: крушение царизма связывалось с общей гибелью старого мира. Впоследствии сквозь призму этих же представлений Блок и Белый будут смотреть и на Октябрьскую революцию. Так, в заключительном стихе поэмы Блока "Двенадцать" появляется и возглавляет революцию Иисус Христос, что означает конец света, ибо Христос является судить живых и мертвых. Аналогичный образ находим и у Белого, откликнувшегося па Октябрьскую революцию поэмой "Христос воскрес". В-третьих, в отличие от индивидуалистического протеста декадентов, для младших символистов в революции важна ее стихийность и массовость. Такая сторона революции была особенно важна для В. И. Иванова, смотревшего на эту стихию сквозь призму идей Ф. Ницше, который противопоставлял рассудочное и индивидуалистическое начало, восходящее к богу солнца Аполлону, и иррациональное и массовое начало, восходящее к Дионису. Современный ему этап истории России Иванов понимал как движение от аполлонизма к дионисийству, к разгулу стихийных сил, называя его "правым (то есть справедливым) безумием".
После разгрома революции в 1907 г. символизм вступил в полосу кризиса: идеи как декадентов, так и младших символистов оказались в значительной мере исчерпанными, а новых идей не было. Символизм начал терять свое общественное значение, искания поэтов приобрели чисто эстетический характер. Вместе с тем в это время внутри символизма идет важная и напряженная работа, связанная с исследованием самого символизма и литературы вообще. Вопросы стиховедения и теории перевода волновали В. Я. Брюсова. Уже известные мастера слова и совсем неопытные еще авторы собирались на "Башне" у В. И. Иванова. Вскоре эти собрания получили название "Академии стиха". Многие молодые поэты, вступившие в литературу уже после распада символизма, получили здесь свое поэтическое образование. А. Белый, группировавшиеся вокруг него молодые литераторы и литературоведы закладывали основы научного статистического стиховедения. Первые результаты этих исследований были опубликованы в вышедшей в 1910 г. книге А. Белого "Символизм".
Сочинение
Поэзия Бродского “На смерть Жукова” представляет собой перифразу державинского стиха “Снегирь”, написанного на смерть другого великого русского полководца - Суворова. В “Новых стансах к Августе” очевидной является тематическая параллель со стансами к Августе Байрона. «Песнь невинности, она же - опыт» перекликается с двумя знаменитыми поэтическими сборниками Блейка “Песни невиновности” и “Песни опыта”, а поэзия Бродского на смерть Т. С. Элиота построена в стиле “Памяти лица” Одена. Список подобных взаимодействий с чужим текстом можно продолжать. Главное, что поэт, делает замечание американский профессор-русист Михаил Крепе, “пользуясь чужими красками, тем не менее, всегда остается самим собой, т.е. в поэзии “по мотивам” герой тот же самый, что и в поэзии своей палитры. Естественно и то, что Бродский избирает произведения таких поэтов, которые близки ему то ли по духу, то ли по настроениям, то ли по составу поэтического таланта”.
Специфической чертой поэтики Бродского является также самоцитирование. Так, в творчестве 90-х годов встречается немало цитат из собственной поэзии раннего периода, прежде всего 70-х годов. Повторяются, например, рифмы (”вера” - “стратосфера”) и образы (”папоротник пагод”, “мрамор для бедных”, “нью-йорки и кремли из бутылок”). Исследовав подобные самоцитаты Бродского, А. Расторгуев сравнивает их с самоцитатами Мандельштама: “У Мандельштама повторы, варианты одного и того же самого приводят то к похожим, то к непохожим результатам точно так, как в разных вариантах мифа герой действует по-разному, вплоть до того, что разным будет его конец или посмертная судьба”.
У Бродского же “повторные хода языка создают другое впечатление: герой его стиля вдруг в какой-то момент осуществляет такой же поступок, который осуществлял давно или недавно, но при других обстоятельствах. И пейзаж был другим, и время дня, тем не менее, есть какое-то место, куда следует лишь посмотреть - и вдруг становится понятным, что все это уже было… Совпадение с собой… суживает круг бытия, возвращает любое образное впечатление назад, к себе самому…”. В этом - разница индивидуальных творческих манер модерниста Мандельштама и постмодерниста Бродского, как и разница “больших стилей”, которые они соответственно репрезентуют - модернизм и постмодернизм. Здравый смысл в лирике Бродского часто переплетается с иронией и самоиронией. Это позволяет, с одной стороны, снимать интеллектуальное и эмоциональное напряжение, а с другой - вести диалог с культурой на разных уровнях. Встречается в поэзии Бродского и постмодернистский пастиш. Яркий пример - шестой сонет из цикла “Двадцать сонетов к Марии Стюарт”, в котором для выражения своего жесткого и безжалостного взгляда на человека, мир, любовь резко трансформируется текст пушкинского шедевра “Я вас любил…”:
* Я вас любил. Любовь еще (возможно,
что просто боль) сверлит мои мозги,
Все разлетелось к черту, на куски.
Я застрелиться пробовал, но сложно
с оружием. И далее, виски:
в который вдарить? Портила не дрожь, но
задумчивость. Черт! все не по-людски!
* Я Вас любил так сильно, безнадежно,
как дай Вам бог другими, но не даст!
Он, будучи на многое горазд,
не сотворит - по Пармениду - дважды
сей жар в груди, ширококостный хруст,
чтоб пломбы в пасти плавились от жажды
коснуться - “бюст” зачеркиваю - уст!
Как комментирует эту перелицовку пушкинской поэзии известный русский исследователь А. Жолковский, “Несчастливая любовь грубеет до физической боли и преувеличивается до попытки самоубийства, отказ от которого иронически мотивируется сугубо технической сложностью (оружие, выбор виска) и соображениями престижа (”все не по-человечески”). За пушкинским “другим” просматривается бесконечное множество любовников, а намек на неповторимость любви поэта развернут в шутливый философский трактат со ссылками на первоисточник. Бог из полустертого компонента идиомы (”дай вам Бог”) возвращен на свой пост творца всего сущего, но с указанием, что создавать разрешается лишь (не) по Пармениду.
Стыдливая нежность оборачивается физиологией и пломбами, которые плавятся от “жары”, раздутой из пушкинского “угасла не совсем”. А романтическая возгонка чувства приходит к максимуму (посягательство на грудь любимой переадресуется устам) и далее к абсурду (объектом страсти оказывается не женщина, а скульптура, а субъектом - даже не мужчина с расплавленными пломбами во рту, а исключительно литературное - такое, что пишет и зачеркивает - “я”). Пушкинский словарь осовременивается и вульгаризируется. Вместо “быть может” Бродский ставит “возможно”, вместо “души” - “мозги”, вместо “так искренне” - простоватое «так сильно». Появляются разговорные “черт”, “все разлетелось на куски”, “не по-людски”, канцелярское “и далее” и откровенно простоязычное “ударит”. “Черт” и “все” даже повторяются, чем подчеркнуто упрощенно имитируются изысканные пушкинские параллелизмы”.
От постмодернистского сознания у Бродского присутствуют также ирония и самоирония, смешивание высокого и низкого, трагического и фарсового, насыщенность поэтических текстов образами предыдущих историко-литературных эпох и культурными реалиями. Все эти и другие признаки постмодернистской лирики появляются, например, в его произведении “Речь в пролитом молоке”:
* Я сижу на стуле в большой квартире.
* Ниагара клокочет в пустом сортире.
* Я себя ощущаю мишенью в тире,
* Вздрагиваю при малейшем стуке.
* Я закрыл парадное на засов, но
* Ночь в меня целит рогами Овна,
* Словно Амур из лука, словно
* Сталин в XVII съезд из «тулки».
Однако поэзия Бродского - совсем не смесь нетрадиционалистских и постмодернистских художественных приемов. Это, в самом деле высокая поэзия, наполненная и философской напряженностью, и тонким лиризмом, и высокой гражданской позицией, и моральными вопросами, и раздумьями о месте поэта в современном мире, и утверждением высокой миссии поэтического слова. Когда из США пришла весть о смерти Иосифа Бродского, русский поэт-постмодернист Д. Пригов заметил: “Бродский был великим поэтом в эпоху, когда великие поэты не предусмотрены”. И это было, в самом деле так. Ведь оставаться великим поэтом в эпоху постмодернизма, когда, по словам другого русского постмодерниста В. Курицына, «для большой поэзии … мало осталось понятий и слов”, когда исчерпались сами представления о этой большой поэзии, - судьба настолько же счастливая, насколько и тяжелая».